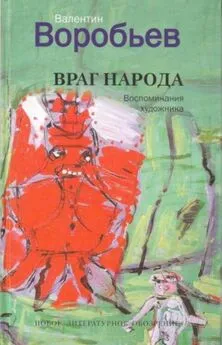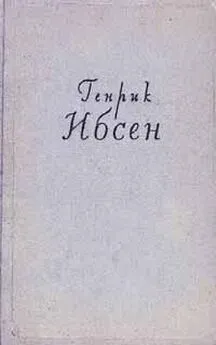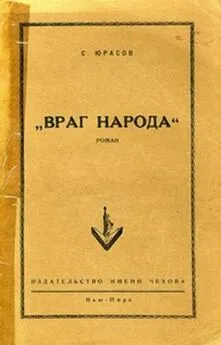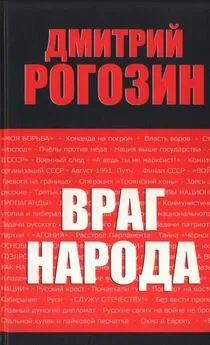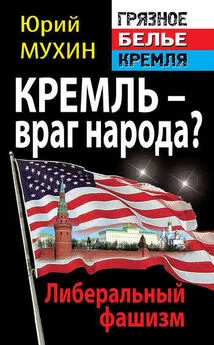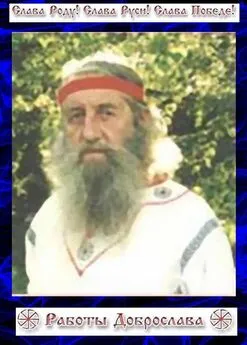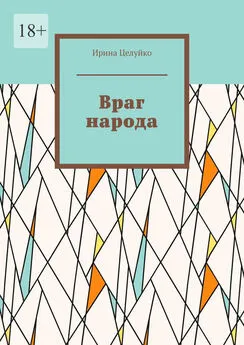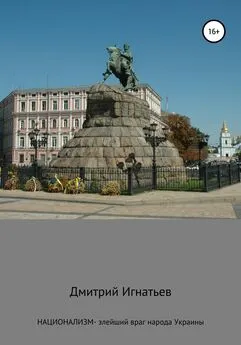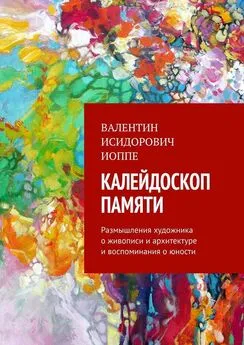Валентин Воробьев - Враг народа. Воспоминания художника
- Название:Враг народа. Воспоминания художника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-345-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Воробьев - Враг народа. Воспоминания художника краткое содержание
Враг народа. Воспоминания художника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Я совершенно охуел от Европы, — писал мне В. Я. в начале 1976 года из Вены (пансионат „Беттина“, Хардигассе, 32), — представь себе ласточку, родившуюся и выросшую в тесной комнатушке, и вот ее выпустили, а куда, не просто на волю, а в рай!»
Стать австрийцем или американцем он не мог. Работал и доживал иностранцем, русским эмигрантом.
Исторически «богатый художник» не существует.
Трудно представить богачом безымянного гения Средневековья. Где бы он ни трудился, в Китае, России, Греции, Италии, художника приравнивали к трудовым людям особого ремесла. Современность разбила некогда единый цех на зажиточных и нищих. Одних засыпали почестями, других травили и топили в дерьме. Русское искусство при дележе мировой славы не получило своего куска по достоинству. Оно уходит незамеченным огромным косяком, от Ореста Кипренского в XIX веке до Казимира Малевича в XX. Запоздалая слава последнего ничего не меняет в негативном отношении к русскому художеству.
Всякий знает, как живет европеец. Удобно, скучно и благопристойно. В 1976 году Васька-Фонарщик заключил контракт с австрийским фабрикантом мебели Фердинандом Майером и выехал в курортную деревню Китцбюль, что в тирольских горах. Получив от храброго австрийца сарай, матрас и «солдатскую пищу», он принялся за строительство новой жизни. В сердце Европы он строит «необитаемый остров», логово в полном соответствии со своими вкусами и привычками. Неуемную страсть к выдумкам, созидательный пыл и талант русский художник притащил в скучный Китцбюль. Он огораживает сарай колючей проволокой и тащит на отвоеванную территорию все, что содержит европейская помойка, — ящики, доски, ведра, журналы, тряпье. Обалдевшие обитатели курорта идут поглазеть на русского художника. Желающих купить картину он выстраивает в очередь, по записи.
«Связи возникли как погода» (В. Я.).
Безымянный сарай Европы превращается в процветающее хозяйство. Необычная мастерская с огромной картиной «Снегопад для Майера» посредине посещают пронырливые репортеры и знатоки живописи. География жизни расширяется. Он посещает музеи Мюнхена, Венеции, Вены. Художник писал самую большую (6 кв. метров) и самую лучшую картину в жизни.
Мы знаем картину, бьющую по человеческому сердцу, это Босх, Рембрандт, Гойя и, очевидно, пресловутая «Герника» Пикассо. Это иной мир, сочиненный на куске холста и гением его создателя превращенный в неотъемлемую часть человеческой культуры, продолжение жизни во времени и пространстве. В. Я. Ситников называет себя не живописцем, а «картинщиком».
Что такое «картинщик»?
В 1944 году в казанском дурдоме Васька-Фонарщик изобрел необычный изобразительный метод «снегопада», отработанный мелкими кистями, и геометрически четкие снежинки оптического разнообразия. К многофигурной композиции он шел не спеша. Она появилась в конце 50-х годов, робко сочиненная по сюжету, но стойкая по исполнению. Художник не рисует картину, а строит, как спектакль. В ней нет совершенного, лихого рисунка, рафинированного колорита и классической компоновки в золотом равновесии. В лучшем случае в композиции присутствуют вечные статисты искусства: земля, небо, толпа, здания, животные, птицы. Картина строится за кулисами, от которой взбесится любитель строгой античности. От русской жизни В. Я. С. отжимает этнографию кривых зеркал, в смешном виде «мопсов и бульдогов» и церковную архитектуру, опрокинутую к небу «в три четверти». Вторая кулиса — «снегопад», ажурная ткань снежинок, наброшенная на изображение, как вуаль на лицо. Третья кулиса, первый план. Он кочует почти неизменным из картины в картину, постоянный герой — мускулистый персонаж с кистью в руке, как две капли воды похожий на веселого Ваську-Фонарщика с деньгами. Он страшно доволен проделанной работой и ставит точку над «и».
Набегая друг на друга, эти механические планы создают неповторимый оптический и живописный эффект, напоминая старый персидский ковер.
Большая картина, выполненная кистью в один волосок, где каждое прикосновение драгоценно, через три года стояла перед европейским зрителем. Врожденный эстет в недоумении разводит руками, недалекий авангардист скулит от зависти к изобретателю, подражатели неловко ухмыляются, но все разом удивлены. Равнодушных нет!
«Я эмигрировал с целью доказать хамам советской власти, что я не последний психбольной, а хороший дорогой художник»
(В. Я. С.).Владелец заказной картины Фердинанд Майер оценил картину в 240 000 австрийских шиллингов, цена немыслимая для современного, никому не известного русского художника.
Московский искусствовед Зана Плавинская — редчайший случай интереса к авангарду — очень точно и справедливо заметила (очерк «В. Я. Ситников», 1995, в рукописи): «Его письма — особая творческая система кверулянтных идей».
Сестра художника Тамара Яковлевна сохранила потрясающие документы террора, письма В. Я. С. из Казани 1942–1944 годов. Он любил и умел их писать, с необычайными оборотами просторечия, меткими сравнениями и крылатыми популярными словами. С августа 1975-го по ноябрь 1985 года я получил от него в общей сложности сто двадцать (120) страниц произведений высокого эпистолярного и, если хотите, «кверулянтного» творчества.
В 1977 году, глубокой осенью мне удалось побывать у него в Китцбюле. Мой старый друг похудел, осунулся за два года эмиграции, но по-прежнему горел желанием написать самую большую, самую лучшую картину в мире. Мы проговорили всю ночь напролет. Говорил он, не прекращая, жалуясь на предательство любимой женщины, застрявшей в Москве, скупость хозяина и глупость соседей.
Давняя мечта — «плавать по необъятному миру, как рыба в океанах и в реках тоже» — сбылась!
В середине 1980 года В. Я. покинул гостеприимный и доходный курорт, чтобы в Вене попасть в тупиковое положение «устроенного человека», а не нищего беженца. Америка, куда устремился он со страстным желанием «прославиться» («если я Робинзон Крузо, то создам нечто на пустом месте»), охотнее впускала эмигрантов без «бумаг», чем эмигрантов с «бумагами», полученными ими под названием «хрендепас».
Венские бюрократы благотворительного фонда им. Л. Н. Толстого полагали, и не без оснований, — контракт с галереей Майера, очередь на заказы, выставки в кунстхаузе, — что эмигрант Василий Ситников хорошо устроен, и дали понять своему «генштабу» в США, что он не нуждается в материальной и административной поддержке с официальным «хрендепасом».
Иначе думал сам художник. Не вдаваясь в подробности лицемерных пассажей красиво написанных писем, В. Я. попросту, по-крестьянски хитрил, намереваясь сохранить заработанные в Австрии деньги, — остается неясным, выдал ли он обещанный фонду дар в 5 тысяч долларов! — и бесплатно проехаться на Америке. В конце концов после полугода бесконечных хлопот во все стороны — американским поклонникам, князю Багратиону-Мухранскому в «генштаб», правозащитникам — трюк сработал. Он получил визу в Америку, в славный город Нью-Йорк («как я говорил, первому сообщу вам о моем переезде с пересадкой во Франкфурте… Леня встретил… щас у него в плохих условиях…»), но сообщил мне через месяц, 1980.05.17, суб., 23.55, а открытку в два цвета: красное и голубое — опустил 17 июня, с сугубо перечеркнутым адресом Леньки Милруда и своим новым жильем Е 12 ст., дом 410, кв. 14, где он и умер через семь лет в «дурацкой формы квартире» за 150 долларов в месяц.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: