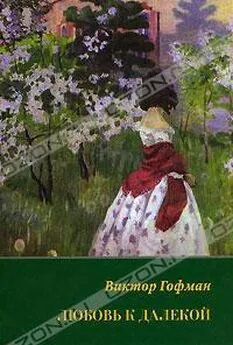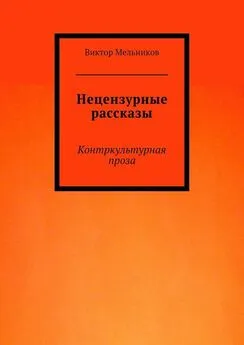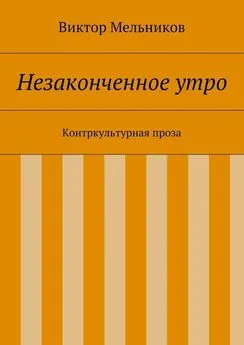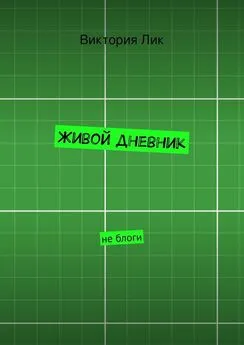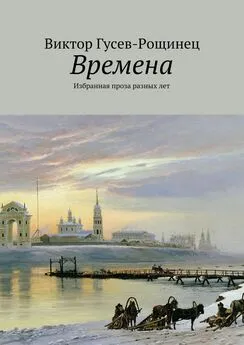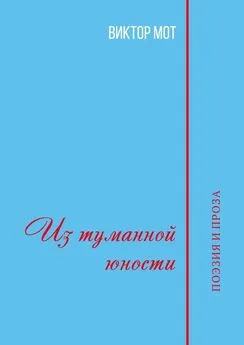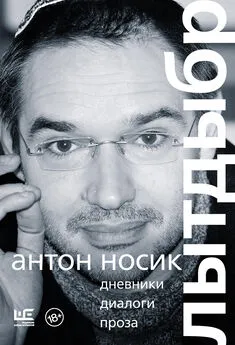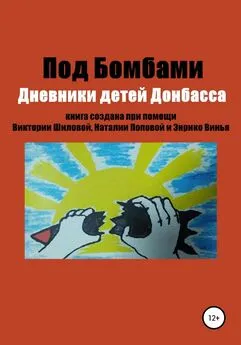Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]
- Название:Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-120168-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза] краткое содержание
Оказавшиеся в одном пространстве книги, разбитые по темам (детство, семья, Израиль, рождение русского интернета, Венеция, протесты и политика, благотворительность, русские медиа), десятки и сотни разрозненных текстов Антона превращаются в единое повествование о жизни и смерти уникального человека, столь яркого и значительного, что подлинную его роль в нашем социуме предстоит осмысливать ещё многие годы.
Каждая глава сопровождается предисловием одного из друзей Антона, литераторов и общественных деятелей: Павла Пепперштейна, Демьяна Кудрявцева, Арсена Ревазова, Глеба Смирнова, Евгении Альбац, Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна, Катерины Гордеевой.
В издание включены фотографии из семейного архива.
Содержит нецензурную брань. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сходил на шествие. [130] Марш в поддержку “узников 6 мая” и политзаключённых.
Как я и предполагал, народу пришло мало: тысяч пять, а никак не двадцать, указанные в заявке организаторов. Строго всё по Нимёллеру:
“Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать”.
За самим Нимёллером пришли практически сразу: первый арест случился в 1935-м, второй – в 1937-м, и до мая 1945 года пастор находился в нацистских лагерях – Заксенхаузене, Дахау, Тироле (оттуда его освободили американцы). Несмотря на все годы, проведённые в заключении, Нимёллер после войны публично покаялся в том, что недостаточно твёрдо противостоял нацистам тогда, когда у него ещё была такая возможность, а в октябре 1945 года стал одним из инициаторов Штутгартской декларации вины: в ней свою ответственность за бездействие в годы нацизма признал Совет протестантских церквей Германии.
“Мы обвиняем себя в том, что не отстаивали своих убеждений с достаточной силой”, – сказано в Штутгартской декларации.
На это можно, конечно, возразить: зато вы остались живы. А отстаивали бы с достаточной силой – могли бы кончить как доктор Корчак или доктор Боткин.
Так что тут разные бывают мнения.
И каждый сам для себя выбирает.
Дело Бейлиса: опыт несотрудничества
Сто лет назад в городе Киеве суд присяжных (в состав которого входили пять членов черносотенной организации “Союз русского народа”) оправдал приказчика Менделя Бейлиса, обвинявшегося в том, что он с ритуальной целью убил православного отрока Андрюшу Ющинского, дабы использовать его кровь для приготовления пасхальной мацы.
О сходстве политтехнологий, породивших “дело Бейлиса”, с сегодняшними упражнениями власти по разжиганию ненависти в обществе я написал колонку в “The New Times”. Эти печальные “рифмы” через столетие – свидетельство того, что уроки истории, увы, остались не выучены. А рифмуется там практически всё: и технические приёмы обвинения, и сопутствующие лозунги, и ключевые фигуранты. Скажем, застрельщиком “дела Бейлиса”, изначально придумавшим всю схему с фабрикацией обвинения, был не какой-нибудь силовик, министр или депутат Госдумы, а юный “общественник”, студент Голубев, глава провластной молодёжной организации, которая и по своим задачам, и по методам, и по механизмам взаимодействия с властью являлась прообразом нашистов. Там тоже при негласной господдержке имитировалось массовое молодёжное движение для борьбы с “врагами России”: так же, как Кристина Потупчик сто лет спустя, студент Голубев сознавал, что врагов этих сперва нужно выдумать. И так же, как студент Голубев за сто лет до неё, Кристина Потупчик в своих инструктажах требовала от соратников заострять внимание на явном или скрываемом еврействе “врагов России”.
Но, помимо сходств, между “делом Бейлиса” и политическими процессами последнего десятилетия есть одно очень яркое, разительное различие. Одна существенная деталь, которая в прежние годы воспринималась как нечто вполне естественное, само собою разумеющееся, а сегодня бросается в глаза.
Дело Бейлиса, как известно, было изначально сфабриковано. Там вообще не существовало никакого момента добросовестного заблуждения, ни с чьей стороны. О невиновности Бейлиса ещё с 1911 года знали решительно все: и следователи, и прокуроры, и судьи, и министр юстиции Щегловитов, и духовные лица, и пресса, и публика, и присяжные заседатели, и эксперты обвинения. Поддержка обвинения – и профессиональная, и общественная – основывалась не на материалах уголовного дела, а на высших государственных соображениях. Определённые (“патриотические”) круги считали, что осуждение евреев на киевском суде отвечает интересам России . Так же, как многие наши сограждане сегодня одобряют санкции Онищенко против молдавских вин, литовского молока, украинских конфет или голландских тюльпанов – не потому, что верят в бред об опасности этих продуктов для здоровья россиян, а потому что солидарны с задачами государственной лжи. Ту же историю наблюдаем во втором деле ЮКОСа, деле “Кировлеса”, процессах над “Pussy Riot”, экипажем “Arctic Sunrise” и узниками “Болотной”. В публичном поле все апологеты этих судилищ (кроме, разве что, самых одиннадцатирублёвых мурзилок из Ольгино) вслух соглашаются, что обвинение абсурдно, что оно противоречит и фактам дела, и диспозиции статей УК, и данным судебного следствия, и всем нормам практики по аналогичным деяниям. Просто они (апологеты, “государственники”) считают, что неблагонадёжных магнатов, несистемных оппозиционеров, кощунниц-богохульниц и надоедливых экологов нужно сажать – ради высшего блага России. Если их нельзя посадить по закону, то и хрен с ним, с законом. Главное – посадить. Кстати сказать, это вполне себе нормальная обывательская позиция, которая в других случаях не вызывает в обществе никаких острых споров. Достаточно вспомнить, что три главных палача сталинской эпохи – Ягода, Ежов и Берия – были поочерёдно осуждены не за свои действительные преступления, а по совершенно вздорным статьям, по которым сами же они до того пустили в расход миллионы сограждан. Ежова расстреляли за подготовку терактов против Сталина и Берии, Ягоду – за подготовку терактов против Сталина и Ежова, а Берию – как английского, азербайджанского, немецкого и югославского шпиона. Все согласны, что обвинения эти – бред, но все три приговора в постсоветское время были подтверждены.
Но если мы вернёмся в 1913 год, то увидим там удивительную картину, от которой нас так прочно и основательно отучил опыт наблюдения за безотказной путинской машинкой репрессий.
Организаторы дела Бейлиса на всех стадиях подготовки показательного процесса столкнулись с тотальным отказом правоохранного сообщества от сотрудничества с обвинением. Во всей киевской окружной судейской палате не нашлось судьи, готового вести дело в нужном власти ключе: судью Фёдора Болдырева пришлось для этих целей привезти из Умани, пообещав после успешного завершения суда сделать главой палаты. Во всём Киеве не нашлось прокурора, согласного представлять заведомо ложное обвинение: блядовитого обвинителя Оскара Виппера пришлось везти аж из Петербурга. Ещё хуже обстояло дело со следствием. Власти были вынуждены поочерёдно отстранить от расследования всех, кто им занимался с 1911 года: и начальника киевского сыскного отделения Евгения Мищука, и следователя по особо важным делам Киевского окружного суда Василия Фененко, и надзиравшего за ними прокурора Брандорфа, и даже столичного пристава Николая Красовского, которого организаторы процесса тайно прислали в Киев, чтобы гарантировать сбор “правильных” улик для обвинения. Как и все его коллеги и предшественники, Красовский начал следствие с основной версии о ритуальном убийстве, но очень скоро убедился в его полной несостоятельности. В результате он был арестован и отдан под суд. А для фабрикации дела был прислан из Петербурга следователь по особо важным делам Николай Машкевич, который в итоге и проиграл процесс. Ибо, как учит нас пример профессора Бастрыкина, политическая проституция и качественное следствие – несовместимы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Виктория Мочалова - Лытдыбр [Дневники, диалоги, проза]](/books/1058203/viktoriya-mochalova-lytdybr-dnevniki-dialogi-proz.webp)