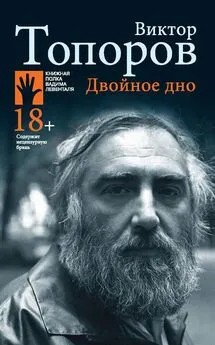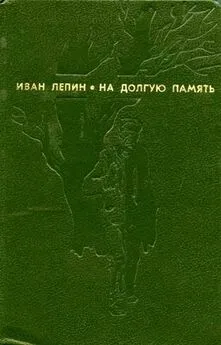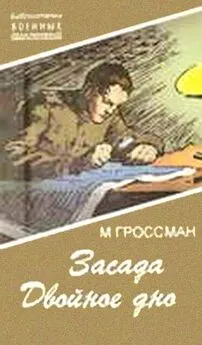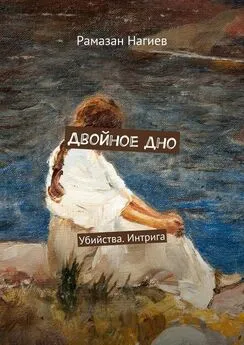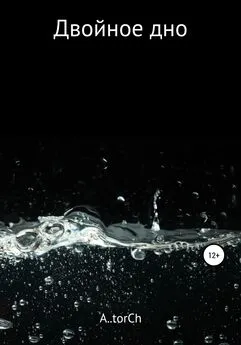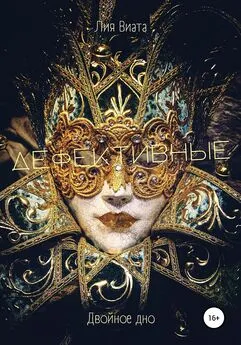Виктор Топоров - Двойное дно
- Название:Двойное дно
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Городец-Флюид
- Год:2020
- ISBN:978-5-907220-09-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Топоров - Двойное дно краткое содержание
Двойное дно - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В условиях далеко зашедшего обрусения это могло означать только одно: двойную лояльность — и своему государству, и мировому еврейству, — отказа от которой потребовал у западноевропейских евреев еще Наполеон. По существу российские евреи — пройдя через стадии национального бытия как отдельного народа в черте оседлости и стремительного обрусения в пореволюционные годы — впервые ощутили сопричастность мировому еврейству именно в военное лихолетье. И, чуткий к подобного рода аномалиям и к потенциальным опасностям, с ними связанным, Сталин развязал антисемитскую кампанию, которая должна была увенчаться депортацией российских евреев из центральных районов страны.
(Не оправдывая тирана и совершенных им злодеяний, важно понять его логику. Вспомним, что Сталин стремился не к национальной, а к идейной однородности общества. Отсюда — и безжалостность по отношению к вернувшимся из плена воинам Красной Армии и к перемещенным лицам. Явлением того же порядка стали и сталинские репрессии против евреев: Сталин усомнился в лояльности советского еврейства, вновь превратившегося именно в еврейство; он не наказывал евреев за «измену», а предотвращал измену эвентуальную. Последней каплей стало, возможно, требование Еврейского антифашистского комитета отдать евреям Крым: тем самым евреи отказывались от предписанного им и в действительности имевшего место обрусения.)
В хрущевские годы негласная политика государственного антисемитизма приобрела довольно отчетливые очертания. Евреи (теперь уже и «паспортные», и «анкетные») были отлучены от партийной и советской работы, от генеральских чинов в армии и соответствующих генеральских по статусу должностей в народном хозяйстве, в науке и в культуре (хотя всюду, впрочем, имелись определенные исключения из общего правила: барьер оказывался преодолим, но преодолим только в одиночку), ограничен был и прием абитуриентов еврейского происхождения в самые престижные вузы. Эта дискриминация, сама по себе не слишком существенная, тем не менее извне (но и изнутри тоже) цементировала советское еврейство, равно как и канализировала его деловую и творческую активность. Зажимали, правда (в ретроспективе это видно особенно ясно), не столько еврейский талант, сколько крепкую еврейскую посредственность. В литературе, например, магистральными жанрами которой традиционно считались проза и поэзия, евреи преобладали в маргинальных жанрах — детской литературы, художественного перевода, научной публицистики, и так далее. Осознав «потолок роста», предписанный дискриминацией, евреи устремились в сферы деятельности, в которых ценилось конкретное умение — музыка, шахматы, медицина, образование и, традиционно, торговля. Национальных ограничений не знала, естественно, и зародившаяся тогда же теневая экономика. Это было, уточню, уже обрусевшее, арелигиозное, этнически смешанное еврейство; сами по себе ограничения, с которыми оно сталкивалось, равно как и проявления бытового антисемитизма, служили едва ли не единственными сплачивающими — уже не нацию, а прослойку — факторами. Однако обратная связь юдофобии срабатывала и тут, приводя порой к весьма курьезным феноменам.
Возьмем такой не слишком типичный пример, как еврейская служба на офицерских должностях в Советской Армии. Здесь еврейская «взаимовыручка слабых», оборачивающаяся в иных областях мафиозностью, по понятным причинам отсутствовала. Стандартная карьера еврея в армии заканчивалась в подполковничьем звании с увольнением в запас в чине полковника (любопытно, что в царской армии мой прадед-выкрест дослужился до полковника, а генерала получил также при увольнении). Но и для этого офицеру из евреев следовало сперва потрудиться. Когда его сверстников, не отягощенных «пятым пунктом» (или соответствующими анкетными подозрениями), производили, допустим, из старлеев в капитаны, он засиживался в старлеях, волей-неволей становясь самым опытным и, возможно, самым лучшим из них. Став наконец (с опозданием по сравнению со сверстниками) капитаном, попадал в точно такое же положение и в этом чине. С одной стороны, перманентное «опоздание на чин» не могло не злить и не унижать самого еврея, справедливо воспринимавшего это как проявление дискриминации. С другой, засиживаясь в каждом очередном чине, он проникался высокомерным превосходством к равным по званию, что вызывало, соответственно, негативную реакцию уже у них. Обратная связь здесь порой приводила к кумулятивному — взрывному — эффекту.
Происходило такое, хотя и не столь наглядно, и в других сферах деятельности. Так складывался миф о еврее, который «один за всех тянет», — для еврея лестно-оскорбительный, для нееврея — и оскорбительный, и нелестный. А на это накладывались и еврейская «взаимовыручка слабых», и целеустремленность скорее традиционного, нежели генетического типа. Еврейская мечта о высшем образовании, заставляющая — в условиях определенной дискриминации — загодя идти на сверхусилия (отеческие внушения, помощь репетиторов, блат, взятки).
Есть забавный этнопсихологический анекдот о трех абитуриентах, провалившихся в столичные вузы, отбивших домой соответствующие телеграммы и получивших стихотворные родительские ответы. «Борис, не борись, смирись, вернись» — русскому. «Панас, езжай до нас, будешь свинопас» — украинцу или, допустим, белорусу. «Хаим, понимаем, собираем, высылаем» — понятно кому. Впрочем, и этнопсихология у нас табуирована, причем самими евреями. Тридцать с лишним лет назад вся страна читала в «Новом мире» статью Игоря Кона «Психология предрассудка», в которой — на примере, разумеется, американских негров — доказывалось, что никаких национальных стереотипов поведения (никакого коллективного бессознательного — утрем нос «гою» Юнгу!) не существует. Эзопов язык был в расцвете — и все понимали, о каких неграх ведет речь будущий академик.
А вот другому будущему академику — А. В. Лаврову — мать (вполне интеллигентная женщина, зав. поликлиникой) сметала со стола студенческие конспекты, глубоко презирая сына за интерес к никому не нужной филологической науке. В еврейских семьях такое было немыслимо: там знали, что способности — любые способности — необходимо всячески поощрять, интерес — всякий интерес — не только приветствовать, но и проявленному сыном интересу «соответствовать».
Важнее, однако, другое. Меры, принимавшиеся евреями для поступления в вуз, сами по себе в условиях дискриминации оправданные, отличались избыточностью, что приводило к перекосу уже в другую сторону. По принципу сверхкомпенсации. А ведь помимо дискриминации как таковой существовал и раздутый миф о дискриминации. Именно он, а не реальное ущемление прав, заставил евреев в условиях несколько усилившегося государственного антисемитизма (как ответной и крайне глупой реакции на Шестидневную войну 1967 года) в массовом порядке задуматься об эмиграции. Подогревала ситуацию, конечно, и сама мысль о блистательной победе израильтян, наложившаяся на бытовые — и фактически неверные — представления о трусости евреев, проявившейся якобы в годы Великой Отечественной. И конечно — мечта о свободном мире. Где все вкалывают, а я буду делать гешефты… Почему я?.. Потому что я самый умный, вот только здесь не развернешься — во-первых, социализм, а во-вторых, антисемиты зажимают… И хотя после Шестидневной войны вспышки народного антисемитизма не произошло, а тогдашний негласный сигнал «евреев на работу не брать, но с работы не увольнять» оказался даже в неприятном своем аспекте преодолимым и, соответственно, не страшным, иронически переосмысленное гагаринское «Поехали!» овладело умами, а после неудачного угона самолета в 1970 году и процессов как над угонщиками, так и над их «вдохновителями» — настаивавшими на мирной эмиграции (и, по-моему, сдавшими «угонщиков» органам заранее) «сионистами» и широкой международной кампании, развернувшейся в поддержку права советских евреев на эмиграцию, мысль об отъезде для многих обернулась явью. Что привело к созданию качественно новой ситуации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: