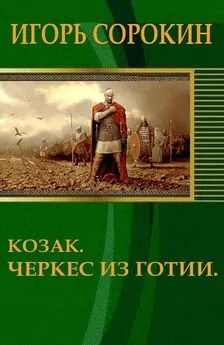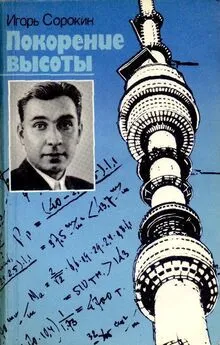Игорь Сорокин - Художник каменных дел
- Название:Художник каменных дел
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский рабочий
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Сорокин - Художник каменных дел краткое содержание
О сложной судьбе выдающейся личности, о трудных поисках и счастливых находках рассказывает эта книга. Повествование доведено до 1930 г.
Адресована широкому кругу читателей.
Художник каменных дел - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Не смей! Что ты делаешь? Не смей портить!
За ним давно уже стоял Голынский и, не говоря ни слова, следил, как рождается его первый успех. Рисунок свидетельствовал о природных задатках, о горячем интересе мальчика к основам художественного ремесла, о том, что ему нужна серьезная школа.
Николай Александрович пригласил Алешу в гимназическую изостудию, где занималось несколько способных учеников. Среди них Алеша был единственным первоклассником. Изостудия и домашнее рисование поглощали теперь все свободное время, и Марии Корнеевне приходилось только удивляться, каким тихим и усидчивым стал, пожалуй, самый резвый из ее сыновей.
Алеша любил присутствовать на разборах знаменитых полотен, к которым питал глубокое пристрастие его «милый Голынский». Как умел учитель поэтизировать чудо художественного действа, сколько страсти вкладывал он в свои слова! Основа искусства, говорил он, конечно же в таланте, но талант превращается в пустой звук, если нет мастерского владения основами ремесла.
Эти основы ученики Голынского постигали чаще всего методом проб и ошибок. Ни строгой методики рисования, ни способов передачи цвета гимназическая студия не давала, но она учила любви к искусству, умению видеть красоту мира.
Алеша был еще очень мал, и ему просто нравилось рисовать. Его самолюбию льстило, что он посещает студию. А когда на показательной выставке кишиневских гимназий, устроенной в земском собрании, его рисунки получили похвальный лист, то на свете не было человека счастливее, чем он. В тот день он принес домой тисненный золотом лист и большую коробку с акварельными красками — приз самому юному дарованию.
Вместе с радостью акварели принесли ему и немало слез. Нежные разводы становились еще бледнее, когда слезы отчаяния падали на картинку, которую и картинкой-то нельзя было назвать: получался какой-то хаос из блеклых пятен, упорно отказывавшихся слиться в единый образ. Рельефность контура была акварелям просто несвойственна, и, чем настойчивей он к ней стремился, тем более отдалялся от цели. Ему было стыдно показать свои опыты не только Голынскому, но даже и братьям.
Когда однажды он был готов выбросить свои краски и, устав от борьбы с ними, тупо смотрел в окно, в его сознание сначала робко постучалась, а потом смело вошла ясно простая мысль, рожденная созерцанием распластанной по небу полосы вечерней зари: как многоцветно, как прихотливо переливчатое закатное небо, сколько тайных надежд обещает оно завтрашнему дню! Но у него нет контура, как нет контура и у дымной, прикрытой облаками кромки земли. Как много умеют недосказать эти яркие небесные акварели! Успокоенный, он заснул, а ранним утром акварели чуть-чуть приоткрыли ему тайну цвета.
Постижение цветовых гамм сперва поразило, а потом безраздельно взяло в плен его воображение. Казалось, он забыл карандаш и писал теперь только акварель за акварелью, отыскивая у утра, у дня, у вечера всё новые цветовые оттенки. Алеша влюбился в цвет, как язычник. Он молился на солнце, на зарю, на луну, и не было для него высшей радости, чем передать свои настроения с помощью акварели. Живой, яркий мир, который окружал его со всех сторон, казался теперь шире, глубже, загадочнее, чем прежде.
Едва дождавшись новой весны, которая уже цвела в его воображении, Алеша задался мыслью отразить в акварелях тепло весенних лучей, пронизывающих бездонную глубину небесного купола, показать оживающую после кроткой южной зимы природу Бессарабии, написать сиреневую дымку, которая покрывает просыпающиеся от зимнего сна ветви деревьев.
Кишиневская весна славится своим многоцветием, неуемным буйством, взрывом красок. Кажется, даже камни начинают цвести. И в самом деле, затененные бока валунов на обочинах, сложенные из природных камней каплички на развилках дорог вдруг одеваются в изнеженно-фиолетовый, желтый, розовый наряд. Непонятно, кому приходит на ум блажь укрывать дорогими аксамитами придорожные камни?
Еще не окрепли дороги, а в воскресенье утром щусевское семейство уже отправлялось пешком в свой сад в Дурлешты за четыре версты от города. Отец ходил трудно, поэтому шли не спеша. Зеленые холмы и глубокие голубые долины дурлештской окраины с белыми мазанками по склонам дышали ранней свежестью. Все утопало в светлой зелени садов.
В эту благодатную пору акварели рисовались легко, словно сами собой. Вся семья следила за Алешиными успехами. Никто не осмеливался мешать ему или подшучивать над ним, когда в Дурлештах он говорил: «Иду поработать на пленэре». Братья, включая маленького Павлика, копались под надзором Виктора Петровича в саду, а Алеша, расстелив на земле кошму, рисовал. Когда пейзаж получался удачным, он сзывал вою семью, и не только братья, но и отец и мать с уважением рассматривали его работу.
Домой возвращались в сумерках. Темнели сады, густели краски ночи, ярко светились лишь окна хат да горели вечерние костры. Живое полотно окружало их со всех сторон.
У всех Щусевых были сильные и приятные голоса. Пелось им легко, охотно. Когда отец заводил старинную казацкую песню, с первых же слов ее подхватывали дружно, слаженно, и стройный хор оглашал окрестности. С песнями и ночь казалась светлее, и простор шире. Рождалось чувство какого-то нерасторжимого семейного единства, вечности красоты и бытия.
К началу нового учебного года Алеша принес в гимназию три толстые папки своих акварелей. Особенно хороши были «Фиалки на еврейском кладбище», «Весеннее озеро в Боюканской долине» и «Пушкинский холм над излучиной реки Бык». В конце лета он сделал еще несколько жанровых зарисовок карандашом. Здесь были «Заготовка турбурела в Дурлештах» (турбурел — молодое виноградное вино), «Тайка с кетменем» («тайка» по-молдавски «отец»), «Мальчики с фруктами» — на этой картинке Алеша нарисовал братьев и самого себя, когда они все вместе несли на длинных шестах корзины, полные яблок и винограда. Была на рисунке и каруца, на которой сидел молдаванин с прямой, как доска, спиной и сосредоточенно раскуривал свою пенковую трубку.
Обилие Алешиных рисунков несколько обескуражило Николая Александровича Голынского. Первой его мыслью было: раз много, значит, не может быть хорошо. В самом деле, рисунки и акварели были неровными, беглыми, но стоило приглядеться к ним попристальней, как открылось, что мальчик учится мыслить с помощью цвета. Ценен был не столько результат, сколько упрямая, даже неотвратимая потребность выражать свой собственный мир цветовыми сочетаниями и линиями.
Когда Голынский вместе с Алешей попытался разложить по какому-нибудь преобладающему признаку акварели, у них долго ничего не получалось. Наконец Николай Александрович придумал распределить их по преобладающему цвету, и мальчик с удивлением увидел, что сначала им были нарисованы все «голубые» пейзажи, потом «зеленые», затем «розовые» и, наконец, «желтые».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
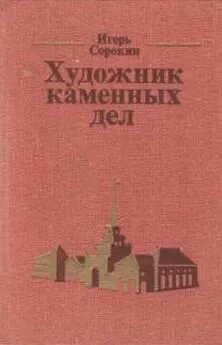
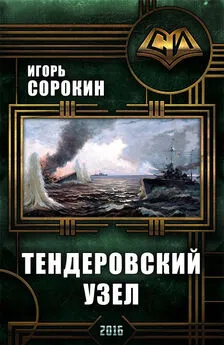
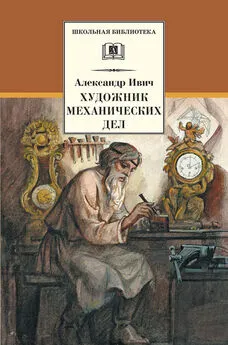
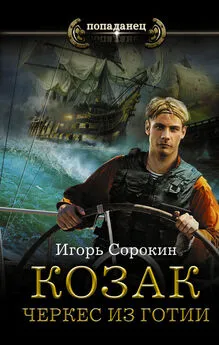
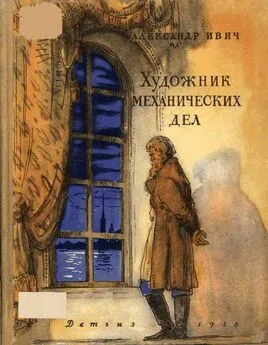
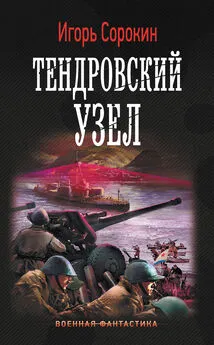
![Игорь Сорокин - Козак. Черкес из Готии [СИ,с издат.обложкой]](/books/1101254/igor-sorokin-kozak-cherkes-iz-gotii-si-s-izdat-o.webp)