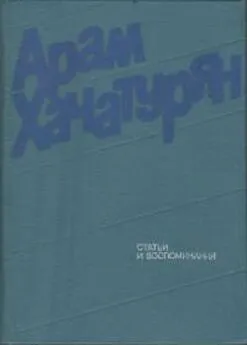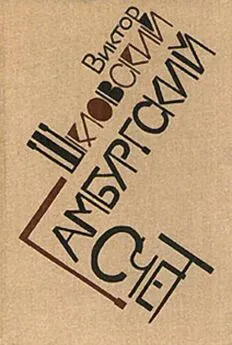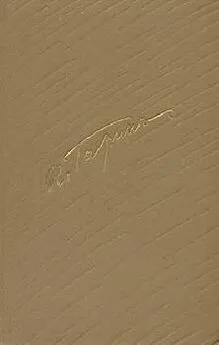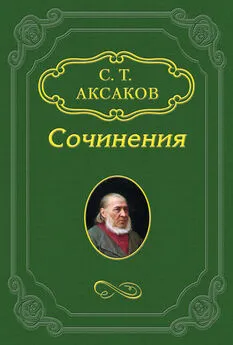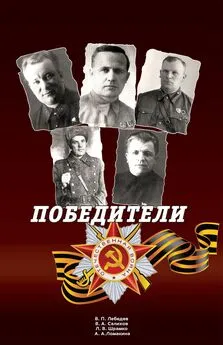Арам Хачатурян - Статьи и воспоминания
- Название:Статьи и воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский композитор
- Год:1980
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арам Хачатурян - Статьи и воспоминания краткое содержание
Статьи и воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Во время наших клубных концертов на мне лежали обязанности пианиста-аккомпаниатора, руководителя хоровых номеров, а порой и просто тапера, лихо выстукивавшего польки, вальсы, падеспани, под звуки которых кружились парни и девушки.
В этой «концертной деятельности» весьма пригодился недавний мой опыт работы в агитпоезде, выезжавшем в Армению, а также умение быстро схватить по слуху звучащие вокруг мотивы и склонность к импровизации. Именно на это, как я узнал позже, обратила внимание Ашхен Мамиконян получившая образование в Московском институте ритма, где искусству импровизации — музыкальной и пластической — придавалось большое значение. А. Мамиконян еще по пути в Москву говорила мне о необходимости серьезно учиться музыке.
Проводив наши теплушки, Сурен Ильич сам выехал в Краснодар, где жил брат Вагинак. Здесь по предложению дирекции местного армянского театра он поставил драму Левона Шанта «Старые боги», после чего возвратился в Москву, прибыв туда почти одновременно с нами.
Прямо с вокзала я с братом Левоном отправился в Староконюшенный переулок вблизи Арбата, на квартиру Сурена Хачатурова, где нас ждал радушный прием и подлинно отеческая забота со стороны старшего брата и его жены Сарры Михайловны Дунаевой — художницы, высокообразованной женщины, незадолго до того ставшей матерью очень симпатичного мальчишки по имени Карэн. Сейчас это хорошо известный московский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, автор многих симфонических, камерно-инструментальных и вокальных произведений, превосходного балета «Чиполлино» — Карэн Суренович Хачатурян.
Вспоминая о начале моей московской жизни, о приобщении к русской культуре, я не могу без чувства глубочайшей благодарности думать о брате моем Сурене, об этом ярком и светлом человеке, которому я столь многим обязан. Сурен для меня — это не просто личные, семейные воспоминания, не только близкий и дорогой человек, сыгравший огромную роль в моей судьбе, но и образ артиста, с именем и деятельностью которого связаны многие важные страницы в художественной жизни Москвы начала двадцатых годов. О чем бы мне ни захотелось рассказать — о своих первых годах жизни в Москве, о начале моей музыкальной карьеры, об увлечении театром, о первых встречах с советской литературой, живописью, музыкой — ни одна из этих тем не существует для меня вне деятельности Сурена Ильича. Он — мой учитель в самом полном, самом человечном смысле этого слова. Он учил меня жизни, учил любить и понимать искусство, учил самостоятельности суждений и действий.
Чтобы лучше понять значение духовной «реформы», которую осуществил в моей жизни Сурен Ильич, нужно вспомнить, каким провинциалом я приехал из Тифлиса в Москву. Мне было восемнадцать лет, за душой у меня было только семь классов Коммерческого училища. При врожденной любви к музыке полностью отсутствовали какие-либо систематизированные знания в области ее истории, теории, не было понимания ее истинной эстетической сущности. За исключением единственного посещения оперного спектакля «Абесалом и Этери», я еще не соприкасался с профессиональным музыкальным и театральным искусством, ни разу не слышал игры настоящего пианиста, звучания большого симфонического оркестра.
И вот этот тбилисский паренек попадает в Москву и поселяется в доме известного театрального деятеля, где постоянно бывают виднейшие столичные актеры, музыканты, писатели, художники, где ведутся жаркие споры о новых спектаклях, о театральных и поэтических течениях. Перед ним открывается мир большого искусства, новые интересы овладевают его сознанием, заставляют его жадно вслушиваться в биение пульса окружающей артистической жизни. Огромный интерес возбуждает в нем Москва — ее архитектура, памятники старины, музеи, неповторимые черты московской социальной жизни начала двадцатых годов...
В этот сложный, переломный период моей жизни брат Сурен заботливо руководил моим воспитанием, делал все для того, чтобы ввести меня в атмосферу трудовой жизни, в которой не было бы серости и заурядности бездумного обывательского существования. По его совету я поступил на подготовительные курсы при Московском университете, а через некоторое время рискнул направить свои шаги в Музыкальный техникум имени Гнесиных.
В доме брата было хорошее пианино — звонкий, вполне исправный инструмент, игра на котором доставляла мне неизъяснимое наслаждение. Когда я порой оставался один в квартире, для меня не существовало большей радости, чем бесконечные импровизации за клавиатурой, подбирание и варьирование услышанных мотивов. Иногда я импровизировал в присутствии друзей Сурена Ильича, и тогда мне со всех сторон твердили: ты должен серьезно учиться музыке.
Первая студия МХТ, одним из основателей которой являлся С. И. Хачатуров, позднее была преобразована во Второй МХАТ. Кроме того, как я уже рассказывал, он руководил Армянской драматической студией, работавшей тогда в помещении бывшего Лазаревского института восточных языков. В числе его близких друзей были артисты Е. Б. Вахтангов М. А. Чехов, Е. М. Сушкевич, В. С. Смышляев, Б. М. Афонин, С. Г. Бирман, Р. Н. Симонов, С. В. Гиацинтова, художники В. А. Фаворский, Г. Б. Якулов, М. В. Либаков. Разговоры и споры, которые велись в его доме, касались вопросов, связанных с постановками К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, Вс. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, К. А. Марджанова, молодых режиссеров А. Д. Дикого, В. В. Готовцева, Б. М. Сушкевича. Нередко затрагивались литературные темы, упоминались имена и произведения Александра Блока, Владимира Маяковского, Сергея Есенина, Андрея Белого, Валерия Брюсова.
Вместе с новыми товарищами по университетским курсам я с азартом аплодировал Маяковскому, выступавшему с чтением новых стихов в Большой аудитории Политехнического музея. В его творчестве меня захватывали и остросовременное содержание, проникнутое дыханием революции, и поражающе смелая форма стиха, и удивительное мастерство «агитатора, горлана-главаря» — остроумнейшего полемиста, безжалостно расправлявшегося со своими литературными врагами.
В сентябре 1922 года, после окончания подготовительных курсов, я поступил на физико-математический факультет Московского университета, на биологическое отделение. Посещение лекций и лабораторий, новые знакомства, шумные студенческие собрания — все было интересно и ново. Однако мысль о серьезных занятиях музыкой меня не оставляла ни на день.
Однажды преподавательница Армянской драматической студии А. Мамиконян взяла меня с собой в Институт ритма — очень известное тогда в Москве учебное заведение, во главе которого стояла Нина Георгиевна Александрова, ученица Жак-Далькроза и активная пропагандистка его системы ритмического воспитания и художественной гимнастики. Институт помещался в старом особняке в одном из арбатских переулков. Когда мы пришли туда, небольшой зал института был переполнен до краев. Люди сидели на подоконниках, толпились в проходах и в раскрытых дверях. На эстраде стоял большой черный рояль с поднятой крышкой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: