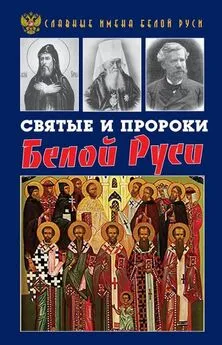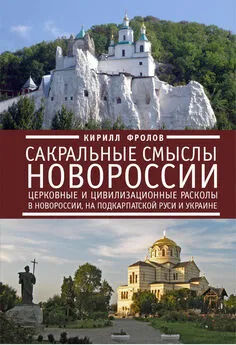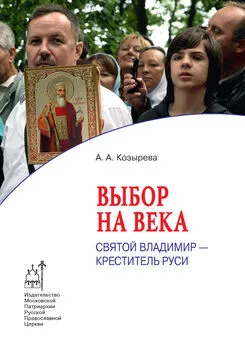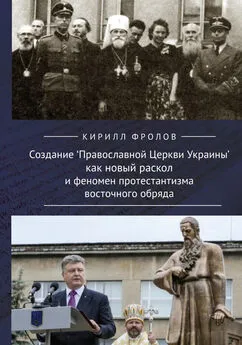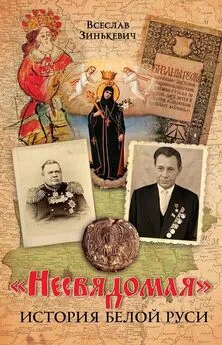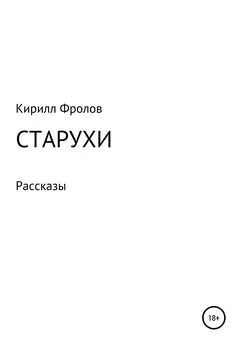Кирилл Фролов - Святые и пророки Белой Руси
- Название:Святые и пророки Белой Руси
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный мир
- Год:2020
- ISBN:978-5-6041886-0-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Фролов - Святые и пророки Белой Руси краткое содержание
О том, что бывает, когда у обманутых русских людей открываются глаза на обман, свидетельствует приводимая в книге история святого брестского игумена Афанасия (Филипповича). Когда этот образованнейший белорусский юноша узнал о том, что литовский канцлер Лев Сапега использовал его против России, сделав воспитателем готовившегося канцлером марионеточного правителя оккупированной России, Филиппович стал монахом и добрался до русского царя Михаила Федоровича Романова, рассказал ему о готовящемся против него и России заговоре и оккупации. Затем, вернувшись в Брест, посвятил свою жизнь борьбе с унией и за воссоединение Великой, Малой и Белой России, стал идейным вдохновителем православного русского восстания во главе с гетманом Богданом Хмельницким, за что три раза арестовывался, подвергался страшным пыткам и в итоге был расстрелян оккупантами. Описанные в книге борьба и подвиг «святого белорусского партизана» игумена Афанасия и многих таких, как он, святых и пророков Белой Руси откроют глаза и станут примером для многих обманутых антиправославной антирусской (следовательно – антибелорусской) пропагандой и позволят остановить готовящийся в Белоруссии «украинский» сценарий, а также приблизят час неизбежного воссоединения Великой, Малой и Белой Руси, важным шагом к которому станет реальное строительство Союзного Государства Белоруссии и России.
Святые и пророки Белой Руси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С 15 августа 1917 по 20 апреля 1918 года, в связи с отъездом в августе 1917 года Полоцкого епископа Кириона (Садзаглишвили) в Грузию, принимал участие в работе Поместного собора Православной Российской Церкви в качестве управляющего Полоцкой епархией. Узнав о бесчинствах большевиков, разоривших архиерейский дом и вошедших в алтарь Никольского собора в Витебске, спешно покинул Москву, приехал в Витебск и 24 февраля 1918 года возглавил молебен в кафедральном Никольском соборе перед простреленной иконой Христа Спасителя. В последующие месяцы 1918 года безуспешно обращался в Витебскую ЧК с прошениями об освобождении невинно заточенных лиц. Затем в 1918 году был вынужден покинуть свою епархию и поселился в Дерманском Троицком монастыре, на территории, подконтрольной полякам.
В конце 1920 года Патриархом Тихоном был назначен на новообразованную Пинскую и Новогрудскую епархию. В 1921 году, когда западная часть Белоруссии оказалась в составе Польши, польский министр исповеданий пригласил к себе Белорусских иерархов и официально заявил им от лица польского правительства о необходимости автокефального церковного устройства. Архиереи торпедировали этот проект, поставив условием согласия выразили получения благословения на это Патриарха Тихона. Патриарх Тихон справедливо был непримиримо против: когда польские власти пытались навязать Варшавской митрополии автокефалию, святитель Тихон сделал уполномоченному по польским делам в Москве следующее заявление:
«…Перед Генуэзской конференцией полномочный по польским делам в Москве вновь явился к Патриарху разведать, как последний отнесется к новой затее, все в том же направлении: отторгнуть православное население от Русской Церкви.
— А что, Ваше Святейшество, — спросил полномочный, — что, если собирающиеся в Варшаве епископы объявят автокефалию?
Патриарх встал, оперся руками о стол и сказал:
— А если они осмелятся самочинно объявить автокефалию, то я у них, как сынов противления, отыму и автономию» [217] Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве Высшей Церковной Власти 1917–1943, М. Св. — Тихоновский богословский Ин-т, 1994, стр.191. И отменил автономию Киевской митрополии, данную собором 1917-18 годов, а в Белорусии инспирированную большевиками и, вероятно, властями Польши такую попытку пресек. — К.Ф.
.
После этого епископ Пантелеймон, бывший среди приглашенных, получил возможность приступить к управлению епархией.
В 1922 году присутствовал на архиерейском соборе в Варшаве [218] Созванном под давлением и по сценарию властей Польши. — К.Ф.
, на котором обсуждался вопрос об образовании автокефальной Польской Православной Церкви [219] Против чего выступало большинство Церкви и православного русского народа Холмской Руси. — К.Ф.
. На соборе он заявил протест против незаконных действий членов собора. Отказался подписать конкордат с польскими властями о положении Православной Церкви в Польше и так называемые «Временные правила об отношении Церкви к государству», составленные на основе указанного конкордата [220] ц ено й которого было участие в смертном грехе раскола. — К.Ф.
.
По окончании Собора польскими властями был насильственно удален из епархии и сослан в Мелецкий монастырь на Волыни под надзор настоятеля. Там его поместили в маленькой келье и препятствовали священнодействовать. Не выслали его за границу потому, что он был поляк по происхождению (по отцовской линии), а его родной брат был членом польского правительства. Находясь в Мелецком монастыре, владыка не оставил своей деятельности, а, сколько мог в своем положении, вел борьбу за сохранение в Церкви юлианского календаря [221] В автокефалистском расколе немедленно началось разрушение Предания и капитуляция перед латинской ересью. — К.Ф.
. Несмотря на запреты, он совершал богослужения.
В 1925 году, по ходатайству архимандрита Тихона (Шарапова) [222] Верного Русской Церкви. — КФ.
, Патриарх Тихон возвел его в сан архиепископа. В 1928 году его перевели в Дерманский монастырь, а в 1930 году — в Жировичскую обитель, где он пребывал до 1939 года.
Для деревни приезд архиерея был большим событием. Его встречали торжественно. Очень скоро своей общительностью, доступностью, простотой и любовью он покорил сердца местных жителей. Сохранилось много воспоминаний о его служении тех лет [223] То есть православный русский народ западных Белоруссии и Малороссии, не признал автокефалистский раскол и украинизацию. — КФ.
.
Владыка Пантелетмон обладал приятным баритоном, голос был громкий. Его проповеди отличались продолжительностью, как и его богослужение. Когда он служил, то в храм шел с народом, образовывая своего рода крестный ход, с песнопениями. Девочки специально собирали цветы (зимой — цветную бумагу) и посыпали на его пути перед Литургией.
Он очень любил детей, раздавал им подарки. Во время своих прогулок с собой носил в карманах конфеты для них; а если конфет не было, то раздавал монеты для их покупки. На Рождество Христово устраивал в своих покоях праздничную елку для детей. Дети всегда приходили поздравлять его на Рождество и на Пасху, читали ему стихи и пели песни, некоторые из которых были специально посвящены владыке.
Отличался он и милосердием: однажды владыка разулся и отдал свои сапоги босому нищему. В иной раз — снабдил бедную семью деньгами, узнав, что те не ходят в храм, стесняясь бедной одежды.
Простота, кротость, духовная настроенность и в то же время каноническая стойкость сделали имя владыки авторитетным среди всего населения межвоенной Польши. В 1936 году архиепископ Пантелеймон, в связи с враждебной деятельностью римо-католиков в отношении Православия, на вопрос польской газеты «Dziennik Wilenski» смело ответил о тяжелом положении Православной Церкви в Польше:
«…православные (в прессе) ни разу не названы своим именем, но постоянно называются схизматиками и даже говорится, что Святая Обитель (Жировичская) теперь в руках наследников грабителей — схизматиков. Между тем так выражаться не только некультурно, но и высшей степени обидно для всех, о ком это говорится, и грешно».
Живя в Жировичском монастыре, писал религиозно-нравственные сочинения, часть которых была издана в типографиях Литвы. Владимир Гриненко так вспоминал о писаниях владыки:
«Небольшие брошюры и листовки святителя… поспевали всегда в самые тяжелые минуты переживаемых православными гонений и делали свое благое дело. Эти послания к народу из-за стен монастыря были не обычными проповедями. В них не было призыва к борьбе с насилием, или напоминания властям о безнравственности их действий, или обличения не устоявших или соблазнившихся, или каких-либо мрачных пророчеств… Нет. Он разъяснял народу всю красоту, всю силу, все духовное обаяние Православия. Не делая никаких сравнений с иными исповеданиями, он показывал народу ценность его веры такою, какова она и была на самом деле… Он приводил яркие примеры исповедничества среди наших святых всех исторических времен Руси и России, разъясняя, почему они поступали именно так, а не иначе, жертвуя подчас и жизнью исключительно только за Сладчайшего Иисуса, даровавшего нам через апостолов Своих Православие, нерушимо оставшееся до сих пор, прошедшее через множество испытаний. Плененный святитель пленял души православных их же Православием. В его словах свет немеркнущий разгорался и разгорался. И никакая «национализация Церкви», новый стиль, а затем униатизация и католизация не прививались к среде народной… Никто не мог запретить по существу смиренную и высокодуховную христианскую проповедь архиепископа Пантелеймона. Его врожденная тактичность здесь была на высоте. В то же время проповедь эта глубоко проникала в народное сознание. Это особенно было заметно при встречах святителя с народом…» (епископ Пантелеймон не боялся говорить о русскости западных Белоруссии и Малороссии, оккупированных Польшей).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: