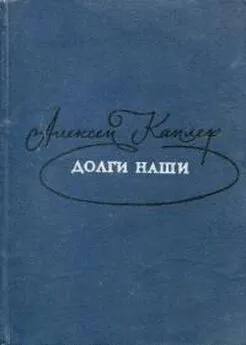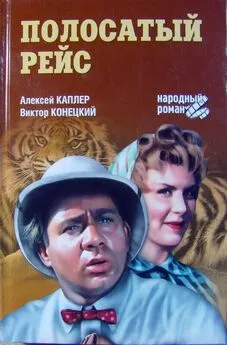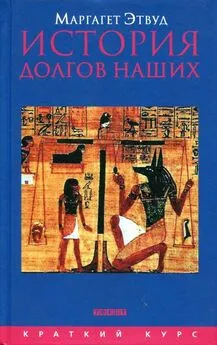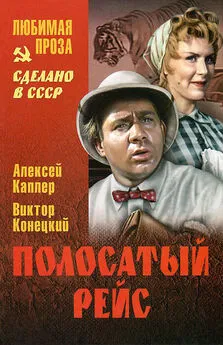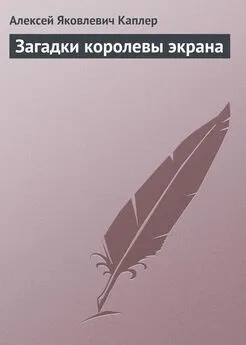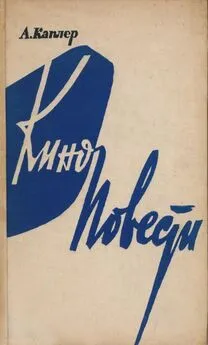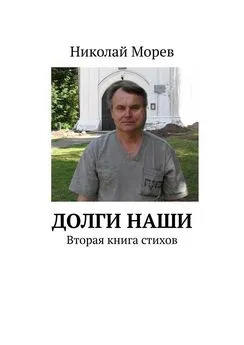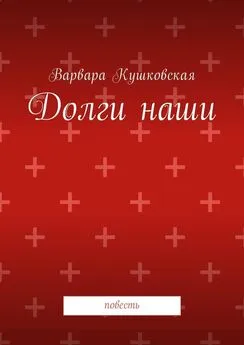Алексей Каплер - Долги наши
- Название:Долги наши
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Каплер - Долги наши краткое содержание
Долги наши - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наутро пришел разведчик и сказал, что в городе, на площади, висит изуродованный труп Юры.
Тетя Фрося заплакала. Командир приказал готовиться к налету на город. Днем из отряда «Храбрый» принесли рюкзак с вещами Юры. Вещей у него было немного — они лежали кучкой внизу, рюкзак оставался полупустым.
В маленькое оконце землянки пробивался дневной свет.
Тетя Фрося развязала узелок, связанный еще Юрием, когда он последний раз укладывал вещи в свой рюкзак. Здесь лежала пачка маленьких бумажных треугольников, — это были письма партизан, которые Юра не успел доставить на посадочную площадку. Там эти самодельные конверты забирает самолет, иногда прилетающий темной ночью из советского тыла.
Я видел, как обращаются с партизанскими письмами в штабе фронта, — каждое из них берут в руки, как драгоценность, и как бы неряшливо, неточно ни был написан адрес, эти письма доставляются обязательно.
Фрося вынула из рюкзака полотенце Юрия с вышитым синим петушком, целлулоидную мыльницу — в ней лежал розовый обмылок — зубную щетку, несколько пар носков, смену белья, маленький надкусанный кусочек шоколада в серебряной бумажке.
Я ждал. Никаких документов, никаких записей, дневника, — ничего, решительно ничего, что рассказало бы об этом человеке, объяснило бы его самого, его подвиг, его сердце.
— Тут еще что-то есть, — сказала Фрося, доставая с самого дна рюкзака нечто, тщательно завернутое в газетную бумагу и перевязанное несколько раз бечевкой. Мы развернули пакет.
Там лежал томик Ленина.
Переплет был обернут бумагой. В книге было много закладок, много пометок на полях, много фраз, подчеркнутых карандашом. Это был четырнадцатый том. Видно было, что над книжкой когда-то работали. Здесь были пометки на полях писем Ильича Горькому, отметины в текстах декабрьской конференции РСДРП и в «Заметке публициста», и закладка в резолюции об отзовизме и ультиматизме, и выписка из некролога «Иван Васильевич Бабушкин».
Я прочел:
— «…Умерли они, как герои. Об их смерти рассказали солдаты-очевидцы и железнодорожники, бывшие на этом же поезде. Бабушкин пал жертвой зверской расправы царского опричника, но, умирая, он знал, что дело, которому он отдал всю свою жизнь, не умрет, что его будут делать десятки, сотни тысяч, миллионы других рук, что за это дело будут умирать другие товарищи — рабочие, что они будут бороться до тех пор, пока не победят…»
Этот томик Ленина в обернутом бумагой переплете стоит теперь на столе в партизанской землянке, в тылу врага.
Весенние ветры гуляют по лесу. И скоро наступит час нашей победы. Ленинский этот томик мы тогда отдадим в Музей революции и напишем с ним рядом несколько слов про Юру Иванова, воспитанника Ильича, верного товарища.
Я вам уже говорил, читатель, что иногда я просил редакцию дать мне задание, которое заставило бы с головой погрузиться в какое-нибудь запутанное дело, разобраться в чем-нибудь посложнее.
Мне охотно давали такие задания, особенно, когда нужно было вести нечто вроде следствия, осложненное тем, что дела считались уже «закрытыми», законченными, утвержденными всеми инстанциями.
Разобраться в таком деле наново, доказать правоту того, кто был действительно прав и несправедливо наказан, казалось мне одинаково важным для него и для меня самого.
Любая профессия налагает на человека определенные правовые и нравственные обязанности. Профессия литератора — в особенности. Он не смеет быть равнодушным, не смеет проходить мимо человеческих страданий, не смеет безразлично констатировать нарушение закона. Он обязан быть борцом. Борцом за правду, борцом против тех, кто нарушает наши юридические и моральные нормы.
Мне хочется в связи с этим рассказать о двух людях, о которых в свое время писала «Литературная газета». Дело прошлое. Век газетных материалов короток. И стоит ли о них вспоминать в книге? Стоит. Не только в назидание. Не только потому, что они каким-то образом характеризуют труд литератора, а потому, что характеризуют наше отношение к закону, к человеку, к праву.
Случаи, о которых я хочу рассказать, как раз касаются попыток нарушить право человека или ущемить его достоинство.
Изо всех сил я старался разобраться в сути дела, найти скрытые пружины, разгадать характеры и обвиняемых и обвинителей, отыскать не замеченное звено.
Не раз пришлось столкнуться с защитниками «чести мундира» — мы же, мол, уже в этом деле разобрались и решили его… Зачем же газете понадобилось снова ворошить все это?
А в «газете» лежало письмо человека, который взывал о помощи, просил заступиться.
Одним из таких дел была история стариков Литвиненко.
Тут мне пришлось столкнуться не с одной только силой «чести мундира», но и с настоящей фальсификацией, с настоящим негодяйством.
И как легко было бы справляться с этим, если бы не равнодушные люди, люди с холодными глазами.
Но прежде чем начать рассказ о стариках Литвиненко, еще одно предупреждение: при публикации в «Литературной газете» статьи «Холодные глаза» и следующей за нею в этой книге статьи «Воспитание дегтем» виновники происшедшего, естественно, были названы своими подлинными именами. И названы и впоследствии наказаны.
Но вот теперь, помещая эти статьи здесь, в этой книге, через несколько лет, я задумался: а следует ли снова называть фамилии этих людей? Не может ли быть, что тот, кто совершил злой поступок, давно исправился? Не может ли быть, что публичное осуждение, наказание или иные жизненные обстоятельства вызвали у этого человека раскаяние, не осудил ли сам свое поведение? И стал, быть может, совсем другим человеком?
А если это случилось, пусть даже не со всеми, а с некоторыми из этих людей, пусть с одним только из них — нужно ли, хорошо ли сегодня вновь «пригвождать его к позорному столбу»?
Тогда, в газетной статье преследовалась цель защитить обиженного, добиться справедливости. Но сегодня — когда дела эти давно решены — есть ли надобность вновь называть эти имена? Нет, по моему.
По этой причине я заменил их инициалами, хотя речь идет об обстоятельствах и о людях вполне реальных.
Впрочем, в «Воспитании дегтем» даже в первой публикации в газете одно имя было обозначено буквой. Это было имя пострадавшей. Прочтя статью, вы сами убедитесь в том, что имя ее нельзя было называть. Ну, а фамилии виновников были, разумеется, тогда опубликованы.
Итак — история стариков Литвиненко.
В редакцию «Литературной газеты» поступило сообщение о судебной тяжбе некоего пенсионера Литвиненко. Дело тянется восемь лет и решено будто бы несправедливо.
Я поехал в Днепропетровск.
В какую бы из днепропетровских организаций я ни обращался — в облфинотдел, облкоммунхоз, райисполком или народный суд, — всюду имя Литвиненко вызывало раздражение, всюду о нем говорили, как о сутяге, замучившем местные учреждения кляузами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: