Александр Петрович Колотов - Из рукописей моей матери Анастасии Николаевны Колотовой. Книга 1
- Название:Из рукописей моей матери Анастасии Николаевны Колотовой. Книга 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2015
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Петрович Колотов - Из рукописей моей матери Анастасии Николаевны Колотовой. Книга 1 краткое содержание
автор опубликовал мемуары своей мамы Анастасии Николаевны Колотовой.В них отражаются проблемы и трудности воспитания детей в многодетной семье в 60-70 годы прошлого столетия в обычной российской глубинке.Как жила женщина,учитель,свято верившая в идеалы коммунизма?Бесконечные семейные хлопоты,жизненные проблемы,непонимание и отрицание окружающих ее людей,борьба с пороками разъедающими общество и страну...
Итог ее жизни - пожелтевшие от времени тетради,сохранённые сыновьями. Боль ее жизни - одиночество,которое пришло на исходе лет...Трагедия ее жизни - вера в светлое коммунистическое будущее осталась всего лишь мечтой, превратилась в прах...
Из рукописей моей матери Анастасии Николаевны Колотовой. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Как тебе не стыдно было не послушать бабушку? Разве можно так делать? Посмотри насколько старше она тебя, а ты её не слушаешь. Она всё для вас, а ты, почему её так обидел, ну за что? — напираешь, бывало, на сына, и под конец категорически заявляешь:
— Чтобы этого больше не было!
Этого хватало. Видя за тот или иной проступок дружное осуждение, дети старались больше не повторять его. Ни разу жалоба мамы на детей не оставалась без внимания, её требования к внукам, ни разу не оставались не поддержанными, тем более что были они почти всегда справедливыми.
Дети наши, поэтому уважали свою бабушку, слушались её и подчинялись ей.
Мы расходились с мамой во взглядах на религию. Она не была религиозной в полном смысле этого слова, не соблюдала ни постов, ни религиозных праздников и обрядов, но и совсем религию не отрицала, в отличие от нашего папы. Она называла себя толстовкой. Мы, её дети, выросли атеистами, по папе, не были религиозны и родители мужа. В таком же атеистическом духе воспитывались, поэтому, и наши дети. В вопросах религии у нас с мамой не было и не могло быть никакого согласия.
Как-то раз услышала я, как мама рассказывает детям о каких-то религиозных мифах. Вижу, слушают дети и только подсмеиваются над её словами.
«Подсмеиваются. А вдруг да её слова в ком-то заронят искру сомнения в вопросе о существовании сверхъестественных сил?» — забеспокоилась я.
Этого допустить было нельзя. И, улучив время, когда детей не было дома, сказала:
— Ты вот, что мама, с детьми на религиозные темы постарайся больше не говорить. Веришь ты, не веришь — это твоё дело, как хочешь, но детей не тронь. Ты жила при одних условиях, им жить при других. И религия им ни к чему. И о праздниках религиозных постарайся им не напоминать. Не для чего им знать и помнить о них. Больше разговоров мамы с детьми на темы религии я не слышала.
Была и ещё одна закавыка в этом вопросе.
В пасху мама всегда красила яйца. Дети очень любили эти яйца и потому ждали пасху.
Пробовала я было отговорить маму от крашения яиц, но тут запротестовали все дети, и яйца пришлось оставить до самой смерти мамы.
К старости религиозные настроения мамы усилились. Она начала даже молиться, чего не было раньше, но молилась, как правило, рано утром, когда дети ещё спали. Встанет, бывало, лицом к окну и крестится. Дети не видели этих молений, и потому беспокойства у меня они не вызывали.
В нашем доме никогда по отношению к бабушке не произносилось слово «старуха». В семье были мальчики, и особых ласкательных и нежных слов не вводилось, но неуважительным и грубым словом «старуха» ни за глаза, ни тем более в глаза мама не называлась. Я называла маму только мамой, муж — мамашей, а дети — бабушкой. Мы оба с мужем сами относились к ней с уважением, этого же требовали и от детей. Вечер ли, торжество ли какое, бабушка всегда занимала в них равное место с нами. Полученными сладостями и гостинцами дети учились делиться с бабушкой так же, как с нами.
Я никогда не потакала капризам детей, и потому они, в общем-то, росли относительно спокойными и зря не капризничали. Не потакала капризам и мама. Ну, а если кто из детей, бывало и закапризничает, мама сейчас со своим:
«Пойдём, я тебе сказочку расскажу», и внук забывал, обо всём и радостно бежал к бабушке. Мама знала немало сказок и охотно рассказывала их своим внукам. Со сказкой нередко дети и засыпали вместе с бабушкой.
Вредила воспитанию детей мамина жалостливость. Дашь, бывало, сыну какое либо наказание, а не в меру жалостливая мама в лучшем случае отделывалась молчанием, в худшем же становилась на защиту внучат. Я всегда терялась в таких случаях. Не будешь же при детях доказывать, что она неправа или, ещё хуже, обрывать словами вроде: «Не твоё дело! Не вмешивайся!» И тому подобными, как это делается в некоторых семьях и кроме вреда ничего не приносит. Приходилось отступать и ограничиваться словами: «Ну, мама!» когда уже очень станет досадно, а потом убеждать и убеждать её, что так нельзя делать. К счастью, такие случаи были не так уж часто.
И ещё в одном у нас были с мамой разногласия.
Мама получала небольшую пенсию, и мы всегда оставляли её ей в личное распоряжение. В общую казну она не вкладывалась. Всё необходимое же для мамы покупалось из нашей общей казны, образованной моей и мужа зарплатой.
На свои деньги мама покупала сладости детям, ходила иногда с ними в кино, остальные раздавала «взаймы» соседям. Она была полной хозяйкой своих денег. Никто никогда её не контролировал в расходовании их. Только когда за деньгами стали приходить пьяницы и алкоголики, а мама по своей доброте и жалости стала давать их им, я запротестовала.
— Ты же только потворствуешь им этим. Ведь они на водку денег просят, — убеждала я её.
— Раз просят, значит им надо. Ну, как не дашь?
— Мало ли что они просят. Выпросят — напьются, скандалят дома, жену, детей гоняют. Что это хорошо, по-твоему?
Мои убеждения не всегда достигали цели. Пришлось сказать потверже после очередного просителя:
— Ты как хочешь, но чтобы пьянчужек этих в нашем доме я не видела. Нечего им у нас делать. Ишь, какая сострадательная нашлась! И к кому? К пьяницам! После такого протеста мама всё же стала находить в себе силы отказывать вымогателям, и они перестали бывать у нас.
Когда дети подросли, мама стала давать уже им не сладости, а деньги. И дети стали привыкать к таким подачкам, даже выпрашивать деньги у бабушки. Получит, бывало, наша бабушка пенсию, а они уж тут как тут. Окружат её и начинают выпрашивать. Пришлось серьёзно поговорить с мамой о недопустимости этого. Нельзя было допустить, чтобы дети привыкли к такому способу приобретения денег.
Мы никогда не давали детям денег «на карманные расходы». Считали излишними делать это. Надо — скажи, дадим. Но небольшое количество денег у детей было. Зарабатывали они их сами, обычно в летние каникулы. То лекарственные травы и ягоды соберут, высушат и сдадут, то в лесхозе поработают на прополке, сборе шишек и прочих подобных работах, то шкурки кроликов сдадут, выращенных ими же. Эти деньги детям разрешалось оставлять у себя. Я только следила, чтобы они не расходовались на вредные затеи. Так дети с раннего возраста привыкали к мысли, что деньги даются за труд. А тут мягкосердечная бабушка стала источником незаработанных средств! Разговор с мамой на эту тему происходит, конечно, в отсутствие детей примерно в таком плане:
— Мама, ну зачем, ты даёшь деньги? Подумай-ка, разве дело это? Смотри, они начинают их у тебя уже просто выпрашивать. К хорошему это не приведёт. Ты вспомни, разве вы давали нам деньги? Даже на кино, бывало, не выпросишь. Всё сами зарабатывали. И правильно. А зачем ты тут-то так делаешь? Пусть учатся тоже сами зарабатывать на свои расходы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

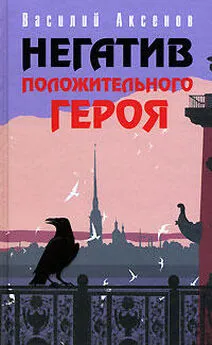
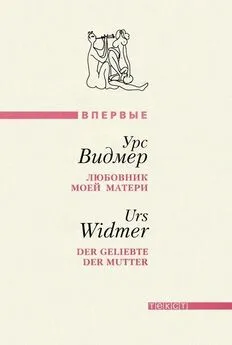
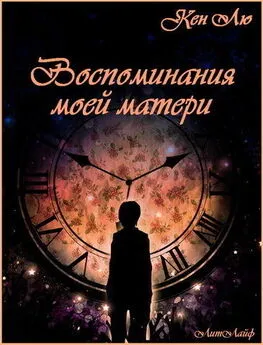
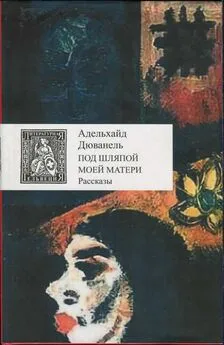
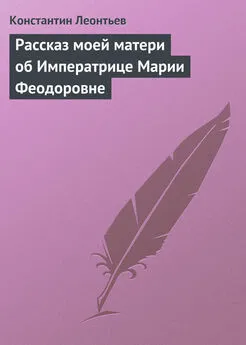
![Марсель Паньоль - Слава моего отца. Замок моей матери [сборник, litres]](/books/1088340/marsel-panol-slava-moego-otca-zamok-moej-mater.webp)