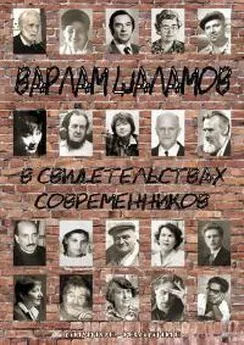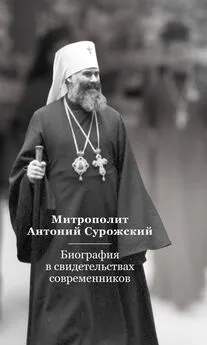Составитель-Дмитрий Нич - Варлам Шаламов в свидетельствах современников
- Название:Варлам Шаламов в свидетельствах современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Составитель-Дмитрий Нич - Варлам Шаламов в свидетельствах современников краткое содержание
Варлам Шаламов в свидетельствах современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
[...] Шаламов был в условиях, где не существовало надежды сохранить существование, он свидетельствует о гибели людей, раздавленных лагерем. Кажется чудом, что самому автору удалось не только уцелеть физически, но и сохраниться как личности. Впрочем, на заданный ему вопрос: «Как Вам удалось не сломаться, в чем секрет этого?» Шаламов ответил не раздумывая: «Никакого секрета нет, сломаться может всякий». Этот ответ свидетельствует, что автор преодолел искушение счесть себя победителем ада, который он прошел и объясняет, почему Шаламов не учит тому, как сохраниться в лагере, не пытается передать опыт лагерной жизни, но лишь свидетельствует о том, что представляет собой лагерная система.[...]
Лагерь так и не отпускал Шаламова до конца его жизни. Уже в доме престарелых он прятал под подушку сухари. В конце концов его повезли в интернат для психохроников, привязав к стулу и без верхней одежды, несмотря на морозный день. Через несколько дней он умер от воспаления легких. На соседней койке лежал прокурор сталинских времен, поедавший собственные экскременты».
Из статьи «Искушение адом», опубликовано в Шаламовском сборнике №1 (1994), сетевая версия на сайте Данте XX века http://www.booksite.ru/fulltext/1sh/ala/mov/35.htmи в журнале Индекс/Досье на цензуру, 1999 , №7-8, сетевая версия на сайте журнала http://www.index.org.ru/others/199shred.html
_________
«Литература для Шаламова отнюдь не была чем-то отделенным от жизни. Скорее, наоборот, литературный процесс и был его подлинной жизнью, а все остальное лишь необходимым жизнеобеспечением, к которому он предъявлял самые минимальные требования. Об этом свидетельствовал и сам образ его жизни, в котором все было посвящено гарантированию пригодных для него условий работы: никаких усилий ради минимального комфорта в еде, одежде или обстановке, никаких ненужных для работы или рабочего состояния встреч, никаких внелитературных целей. Предельно аскетичный образ жизни был вызван не только отсутствием материальных средств (в конце концов, есть роскошь бедняков), но и внутренней установкой на полную независимость от жизненных обстоятельств. Даже человеческие привязанности были, как мне кажется, для него непозволительной роскошью, дополнительной данью земной суете. Он редко привязывался к людям, но допускал к себе тех, кто не нарушал его жизненного (или, что то же, творческого) ритма. Это был акт величайшего доверия с его стороны. Его, по моим наблюдениям, мало интересовали чужие мнения, жизненные концепции и тому подобные ненужности. Факты же, неизвестные ситуации, лежащие в русле его интересов, он обдумывал и изучал. Важна для него была и возможность высказаться самому – рассказчик и чтец он был великолепный. По крайней мере, до того, как у него стали развиваться болезненные дефекты речи и слуха в конце 1970-х годов. На колымской каторге Шаламов сумел сохранить себя – уберечь от физической и духовной гибели – ради того, чтобы остаться дееспособным в литературе. Было ли это только его заслугой, проявлением его сверхчеловеческой стойкости? Сам он так не считал.
Однажды, когда Шаламов нас навестил, моя жена спросила его о том, как он сумел не сломаться в страшных условиях колымских лагерей и сохранить в себе духовные силы, для того, чтобы так об этом написать. Он ответил несколько неожиданно для нас обоих, что никакого секрета нет и сломаться может каждый. Сомневаться в его искренности у нас не было оснований, слишком серьезно это было сказано. Считать, что его спасло благоприятное стечение обстоятельств, позволивших после ряда лет каторжного труда остаться при больнице и даже потом окончить фельдшерские курсы? Но слепой случай не отбирает лучших».
Из статьи «Духовная тайна Шаламова» [главы из неоконченной работы известного философа и публициста Юлия Анатольевича Шрейдера (1927-1998). Ср. посмертную книгу Ю. Шрейдера «Ценности, которые мы выбираем». М., 1999 – прим. публикаторов], опубликовано на сайте Данте XX века, здесь же сетевая версия http://www.booksite.ru/fulltext/3sh/ala/mov/10.htm
Юлий Анатольевич Шрейдер (1927-1998), математик, специалист В области информатики, философ, опекавший Шаламова во второй половине 70-х годов
Свидетельство врача-психоневролога из рассказа Амаяка Абрамянца «Шаламов» на сайте автора
http://armenianhouse.org/ abramyants/fiction-ru/shalamov.html
«Доктор К. отложил сигарету и отхлебнул из фужера коньяку, в его татарски прищуренных глазах заплясали чертики, высокий табачно-желтый лоб заблестел сильней, чем обычно, и боевая мефистофельская бородка, казалось, заострилась.[...]
– Вот вы говорили, что Варлама Шаламова видели, – спрашиваю я. Мы сидим в холостяцкой комнате доктора К. Обнаженная женская натура из французских журналов (впрочем, без пошлости) соседствует на стенах с «Красным конем» Петрова-Водкина, портретом Ахматовой. На книжном шкафу с Достоевским и Еврипидом в первом ряду – батарея пустых бутылок из-под коньяка Курвуазье. Он на миг задумывается, вспоминая.
– Как-то вечером звонят в дверь. Открываю – двое. Здесь, спрашивают, живет доктор К? Я – он и есть, отвечаю. Пригласил зайти. Сравнительно молодые, ведут себя вежливо, представились: Морозов и Григорянц. Чем могу служить?
– Тут одного товарища нашего съездить посмотреть надо, не могли бы? Из разговора, однако, понимаю: оба сидели. Ну потом поехали на Планерную, где лежал Шаламов, в дом престарелых. Туда его Борис Полевой устроил...
– Это от Союза писателей какой-нибудь?
– Какой там! Обычная горздравовская богадельня. Лежал он там вдвоем с умирающим стариком. В палате вонь: старик тот ходит под себя, на лице сардоническая улыбка... Пошел Григорянц, мы у открытой двери остались.
– Как он выглядел?
– Ну какой... Руки, голова дергаются, ходят ходуном – хорея Геттингтона, простыни срывает... Длинный, худой, совсем без живота... С вафельным полотенцем на шее – колымская привычка: там шарф – это жизнь, его и ночью с себя не снимают, хоть и весь во вшах, чтоб не украли. А под подушкой и в тумбочке леденцы, кусочки хлеба припрятаны – тоже лагерная привычка.
– Да, я помню его рассказы про голод – кладешь в рот кусочек хлеба и он сам растаивает, жевать не надо.
– ...Подпустил к себе только Григорянца, мне не поверил, третий – всегда стукач. Уж как его Григорянц ни уговаривал, мол, можно верить, наш человек – ни в какую: «Нет – и все!» – рукой отмахивается, а кисти широкие, жилистые – сильные...
Да тут и без осмотра диагноз на расстоянии был ясен – пляска святого Витта.
– Это старческое?
– Не только: от частых травм тоже может быть, хотя редко. Но все-таки больше двадцати лет лагерей и по голове били – и охрана, и уголовники... Хотя на возрастное больше похоже.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: