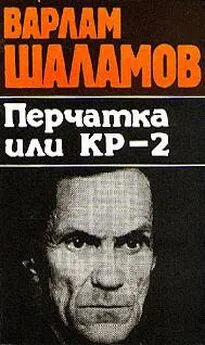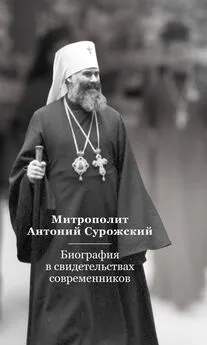Составитель-Дмитрий Нич - Варлам Шаламов в свидетельствах современников
- Название:Варлам Шаламов в свидетельствах современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2014
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Составитель-Дмитрий Нич - Варлам Шаламов в свидетельствах современников краткое содержание
Варлам Шаламов в свидетельствах современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это именно здесь прожил последние три без малого года Варлам Шаламов. Здесь он писал стихи. Вернее, он не писал их, он их с трудом наговаривал, а за ним записывали. (Так же Георгий Иванов незадолго до смерти – в больнице «богомерзкого» Йера – шептал Одоевцевой: «Поговори со мной еще немного, не засыпай до утренней зари», и она послушно записывала за ним…) Это здесь Шаламов узнал о награждении его французским Пен-клубом премией Свободы (премиальных денег он, конечно, так и не увидел). Это отсюда его в январе 1982-го увезли в интернат для психохроников, говоря проще – в сумасшедший дом.[...]
Сумасшедший дом помещался в Лианозове, на Абрамцевской улице. Где-то я прочитал, что Шаламова везли туда через всю Москву. Это не так, – его везли вообще не через Москву, но по самому ее краешку. Я знаю, как его везли, сейчас я вам это расскажу.
Дело было морозным январским утром. Одетого в легкую больничную одежду Шаламова затолкали в неотапливаемый кузов машины скорой помощи. Он не хотел ехать, сопротивлялся (после будет сделана «медицинская» запись: «буен, пытался укусить санитара»). Выехали на Вилиса Лациса, сразу свернули налево, на прямую, как стрела, Планерную улицу, и поехали вдоль забора метродепо. Проскочили вот здесь, прямо под моим окном, и на перекрестке снова повернули налево – на улицу Свободы. И снова свободы досталось Шаламову немного – меньше километра, до поста ГАИ. Сейчас пост ГАИ находится перед поворотом на МКАД, но в те годы он стоял после съезда на кольцевую дорогу, который с поста даже не просматривался. Кто знал, этим пользовался: если нужно было на машине попасть в Москву, избегнув встречи с ГАИ, достаточно было проехать этот короткий и кривой отрезок по встречке – медленно, с включенной аварийкой. Стало быть, не доезжая до поста, санитарный рафик ушел со Свободы направо и очень скоро уже катил по внутренней стороне МКАД. Кольцевая дорога в то время представляла собой узковатый и кособокий шлях, со стертой разметкой, весь в трещинах и колдобинах, и с известной гордостью носила народное прозвище «дорога смерти». Собрав все полагающиеся на ее долю ямы, санитарка додребезжала до поворота в Лианозово, и вскоре уже были на месте, – искомый интернат за номером 32 тоже недалеко убежал от московского кольца. Весь путь вряд ли отнял больше сорока минут – пробок на дорогах тогда не было, но и этого времени было вполне довольно, чтоб убить слабого, слепого, не по зиме одетого и потому прозябшего до костей старика. Об этом почему-то не говорят, но это было вполне сознательное, более того – грамотно спланированное убийство, замаскированное под совдеповское разгильдяйство. Через три дня Шаламов умер от двустороннего воспаления легких[...]»
Из статьи «Грустных и ясных, как небо, стихов», 2009, на сайте Кипарисовый ларец http://www.tatarinova.org/text/79
«Прощальное слово», 1982, фрагменты
Слово о Варламе Шаламове
Сказано после похорон на поминках по Шаламову в квартире Натальи Кинд. Опубликовано в журнале «Континент» №34, 1982 год. Выложено на сайте автора http://grigoryants.ru/stati-raznyx-let/slovo-o-varlame-shalamove-sergej-grigoryanc-1982-god/
________
«[...] Мы еще не в состоянии понять истинное значение творчества и судьбы Варлама Тихоновича Шаламова, как неспособны осознать смысл и последствия трагического периода русской истории, внутри которого находимся.
Шаламов неотделим от России, как Волга, как Уральский хребет, для него не было выбора: уезжать или оставаться – ему, как Божье испытание Иову, дана была судьба всей России, и он повторил ее в своей – человеческой судьбе. Вместе с тем – Шаламов всемирен, всечеловечен, ибо его свидетельство не умещается в рамки национальной литературы или истории, свидетельство, в существовании которого мы уже четверть века боимся себе признаться, ставит вопрос о возможности дальнейшего существования всего человечества, о праве человечества на существование.
Солженицын не верит в способность европейской цивилизации выжить, Шаламов не видит оправдания человеческой природе.
«Мертвый дом» Достоевского – не более, чем детский сад в сравнении со столь близким нам домом, вызвал у Шаламова и отношение к надежде Достоевского («красотой спасется мир») – как к детскому лепету.[...]
Не боясь я иду в темноту, –
уже с миллионами других вернувшись на каторгу, он – благодаря этим урокам – не погиб в первую же зиму, как Мандельштам, как Святополк-Мирский. Впрочем, кто знает, сколько сотен раз Шаламов счел милосердным и счастливым быстрое, по его понятиям, убийство Мандельштама. Впереди у Шаламова было еще двадцать лет гибели. «Среди беспамятного льда» он увидел и испытал то, что не довелось пережить ни одному на земле поэту. Он не покончил с собой, не бросился под автоматы в запретку, не устал думать «о всемогуществе могил», чтобы свидетельствовать о том, что не должен ни пережить, ни увидеть ни один человек в природе:
Потухнут свечи восковые
В еще не сломанных церквах,
Когда я в них войду впервые
Со смертной пеной на губах…
Там, где вся Россия в сотнях каторжных песен творила величайший многоголосый реквием самой себе, небывалую в мировой истории сагу своих страданий и гибели, там Варлам Шаламов в своей угловатой, судорожно рыдающей прозе нашел новый жанр повествования (нет завязок и кульминаций среди тысячеликой смерти), чтобы сохранить лики и души погибших, их место казни и последние шаги, а в стихах вел нескончаемый спор с Богом о смысле и праве такого мира на земле.[...]
Прозы – огненного свидетельства, сравнимого по трагическому пафосу лишь с «Житием» протопопа Аввакума –
…Тетрадь тряслась от плача
В любых натруженных руках, –
печатать не хотел никто («какие-то очерки…» – считалось в либерально-литературных кругах), стихи печатались в отрывках, с разрушенными циклами, чтобы раздробить, придушить, заглушить насколько возможно, рвавшийся из них к Богу и людям предсмертный хрип русской души и русской культуры. И даже в еще шедший в эти годы
Наш спор о свободе,
О праве дышать,
О воле Господней
Вязать и решать…
его – главного свидетеля – пускать не хотели и боялись. В литературных кухнях-салонах к Шаламову относились с заметной и насмешливой снисходительностью (а потом и злорадством: «мы еще тогда это говорили»), а он жаждал какого-то действия, или, вернее, действенной жизни литератора-профессионала: переводил, писал об уголовном мире, создавал наставления для начинающих поэтов, разбирал раннее творчество Репина, – и все это никому не было нужно. Кое-что, правда, издавалось, но проходило, как правило, незамеченным. Известность Шаламова была такова, что когда году в 70-м появилась наконец первая книжка его прозы (разумеется, по-немецки, а не по-русски), и фамилия и имя автора были перевраны.[...]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: