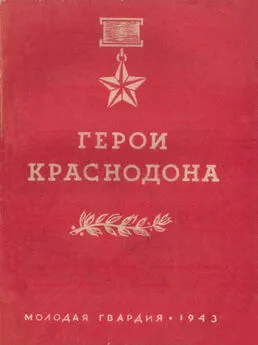Коллектив авторов Биографии и мемуары - Дети войны
- Название:Дети войны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов Биографии и мемуары - Дети войны краткое содержание
А 9 мая, этот счастливый день, запомнился тем, как рыдали женщины, оплакивая тех, кто уже не вернётся.
Дети войны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Только повесила на спинку кровати свою одежду, как один из мальчишек схватил мои чулки. Не успела отнять, как он кинул их другому, а тот третьему. Смотрю, как летают мои коричневые в рубчик чулочки, как мелькает светлая штопка на обеих пятках, но не могу вылезти и отнять их. Потому что стесняюсь. Мои ноги в ранках, в пятнах от йода и засохшего порошка стрептоцида. У меня — неправильный обмен веществ, по-нынешнему — аллергия. Мне очень обидно. Чтобы не заплакать, утыкаюсь лицом в подушку.
Почему-то я ни раз и без всякого повода вспоминала эту странную с горьким привкусом историю. И только сейчас, раздумывая о том времени, поняла ребят. Большинство из них из семей эвакуированных. Уезжали, а то и шли пешком, спасаясь от стремительного потока наступающих вражеских войск. Уходили ни с чем и ни в чём, со стариками и грудными детьми, с больными и здоровыми. И все прошли тяжелейшую пытку голодом. Горький, ещё не осмысленный опыт моих невольных обидчиков подсказал им, что я покусилась на главную ценность — еду. Прав Сократ: мы живём не для того, чтобы есть, но едим для того, чтобы жить. Но когда человек умирает от голода, еда становится для него главной ценностью. Такой же, как сама жизнь…
Я не припомню, какие у нас были игрушки, и были ли они вообще. Больше помнится, что мы часто репетировали танцы, разнообразные спортивные постановки, которые назывались «пирамида», разучивали стихи, рисовали огрызками красных карандашей кремлёвские звезды, а зелёными — танки. Особенно старательно готовились к Новому году. Последний «прогон» выступления уже в костюме снежинки — крепко накрахмаленном платье из марли, проходит дома. Я становлюсь на табурет:
— «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя…»
Ада (справа), 1944 г. Праздник в детском саду.
Стих быстро кончается, нам его дали не весь, но остановиться уже трудно:
— «Однажды в студёную зимнюю пору я из лесу вышел…», — читаю я стихи, с которыми должен выступать на празднике мой лучший друг Костя. Все его звали Котя. Меня это ужасно смешило. Смешило и через много лет, когда у меня появился внук Константин, которого тут же стали называть Котя со всеми уменьшительно-ласкательными суффиксами, которые так и льнут к этому имени. Наверное, жизнь специально подбрасывает нам всевозможные совпадения, чтобы мы в её пестроте не потеряли что-то небезразличное для души.
Итак, я о мальчике в войну. Был он какой-то чересчур серьёзный. А может, это только казалось, потому что он каждый день ходил в костюме — брюках и пиджаке, как у взрослых. Причём, костюм был новым. Исключительный случай при бедности, в которой мы пребывали. Всё просто. Его семья тоже из эвакуированных. А уезжая, наши мамы брали с собой малую малость, но лучшее, новое, чтобы дольше носилось. Возможно, ничего другого, в чём можно было ходить в детский сад зимой, у мальчика просто не было.
Кроме праздников, у нас были дела самой важной важности. Как бы нам, а на самом деле — родителям, давалось задание помочь фронту: связать для бойцов носки или варежки, пошить кисеты для табака. Мои искусницы — мама с бабушкой делали всё это замечательно. Кисеты обязательно с вышивкой. Носки обязательно с цветной каёмкой у верхнего края. Я во всём участвовала. Помогала разматывать пряжу, приносила мастерицам ножницы, нитки, с готовностью бросалась искать упавший на пол напёрсток, а иногда даже вдёргивала нитку в бабушкину иглу. Старалась из всех сил. В указанный день мы принесли эти дары в детский сад. После завтрака нас построили в ряд, пригласили других воспитателей и благодарили за то, что мы помогаем фронту и бойцам нашей Красной армии. Гордости и радости не было предела.
Дядя Костя
Наша челябинская семья состояла из семи человек. Но обычно нас было пятеро. Дядя Костя и тётя Нюся лишь изредка появлялись в доме. Я не понимала, почему. А ответ получила много лет спустя. И пусть это не детские воспоминания, но без них мой рассказ будет не полным.
…В самом начале войны в тыл на промышленную площадку Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) эвакуировались основные в стране производители танков: Харьковский моторостроительный и знаменитый Ленинградский Кировский заводы. Директор Кировского и возглавил всё это мощное предприятие, на котором в войну трудилось 75 тысяч человек.
Мой дядя — Константин Никитич работал на Челябинском тракторном с середины тридцатых годов. Был мастером сборки — высокой степени профессионал. Потому его и поставили на главный конвейер по сборке танков.
Два человека — начальник конвейера и его заместитель — мой дядя отвечали за координацию работы конвейера с цехами. За готовность цехов в чёткой последовательности и минута в минуту поставить на конвейер необходимые детали и узлы ходовой части танков. Сложность состояла в том, что не было запасных деталей. И если бы вдруг при сборке какой-то узел оказался некачественным, а заменить его нечем, конвейер пришлось бы остановить. Это рассматривалось как преступление. За это — не суд, не тюрьма, — расстрел. У конвейера круглые сутки дежурили чекисты — офицеры НКВД.
Сейчас я хорошо представляю, что было на душе у моего дяди. Он знал, что в случае чего отвечать будет первым. Чекисты быстро выяснят, что его родной брат Николай — один из руководителей на Смоленской железной дороге, в 1937 году был арестован как «враг народа» и «немецкий шпион». К тому же их мама — моя бабушка, была из семьи немцев-колонистов, которые чуть ли не при Екатерине Великой приехали в центральную Россию, а следующие их поколения работали в Томской губернии как специалисты горно-рудного дела. Какой была судьба российских немцев в годы Отечественной войны мы хорошо знаем.
Может быть, только сумасшедшей интенсивности работа спасала от этих мыслей. Ни он, ни его начальник даже ночью не уходили с работы. Урывками спали тут же в цехе, поочерёдно сменяя друг друга.
Рабочий день у всех длился 16—18 часов. Сокращённый был только у детей. А как, если не детьми, можно назвать 14 -16-летних парнишек из ФЗУ. В первое время после объединения заводов станки привозили и ставили прямо на улице. В их числе и те, на которых подростки — токари обрабатывали простейшие детали. Зимой, в мороз, самые младшие из того же ФЗУ около станков жгли костры. Спины у стоящих за станком грелись. А пальцы, держащие металлическую деталь, замерзали до дикой боли. Чтобы совсем не отморозились руки, их опускали в бочку с холодной водой…
В августе сорок второго года из сборочного корпуса вышли первые 100 «тридцатьчетверок» -легендарных Т — 34. В сентябре — 300. В октябре — 350. С главного конвейера — на испытания. На железнодорожные платформы. И на фронт.
Пройдёт немного времени, и на второй — новый — конвейер будет поставлен тяжёлый танк ИС-2, который противостоял мощным гитлеровским «Тиграм» и успешно атаковал любые оборонительные укрепления.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


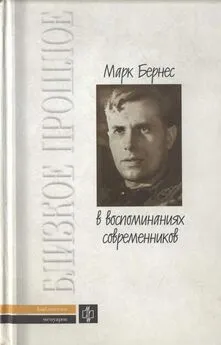
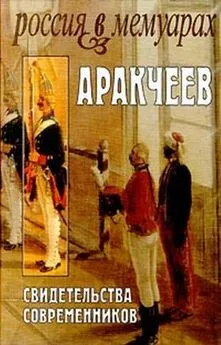


![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)