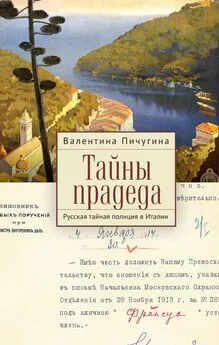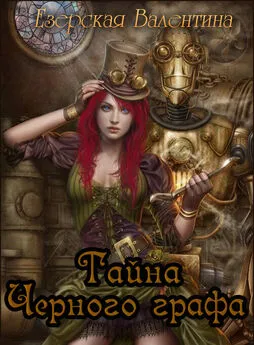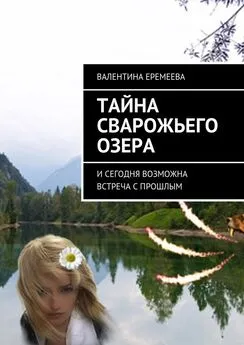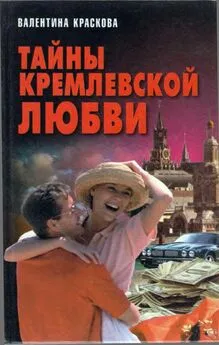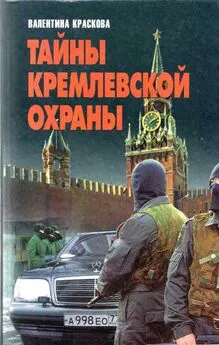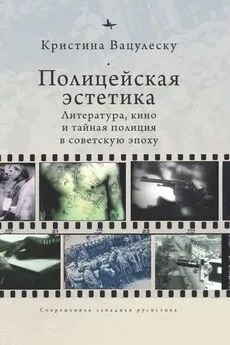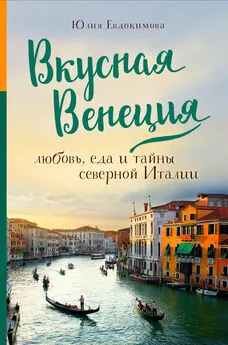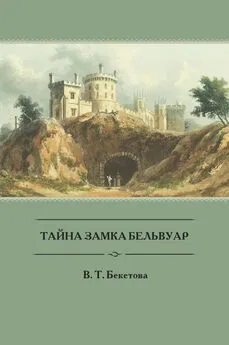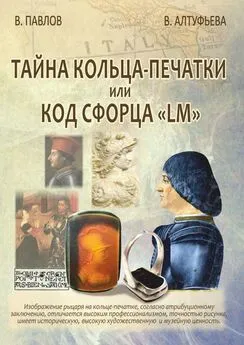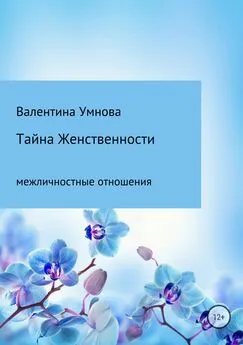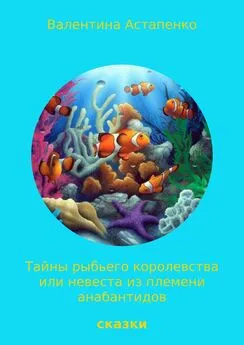Валентина Пичугина - Тайны прадеда. Русская тайная полиция в Италии
- Название:Тайны прадеда. Русская тайная полиция в Италии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2019
- ISBN:978-5-00165-028-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентина Пичугина - Тайны прадеда. Русская тайная полиция в Италии краткое содержание
Тайны прадеда. Русская тайная полиция в Италии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Оправдание графини произвело такой эффект, что поручать после него запрос Раймондо было бы неблагоразумно. Документы, переданные ему, были взяты от него, и через депутата Маффи [96] Фабрицио Маффи (1868–1955) – видный политический деятель. В 1913 г. выбран в парламент от социалистической партии (но не в Лигурии, а в Пьемонте). В первые годы после Революции 1917 г. часто бывал в Москве, будучи делегатом трех конгрессов Коминтерна; по возвращению в Италию вступил в компартию. В 1925–1930 гг. в ссылке на юге Италии, но с 1930 г. жил в Кави (под гласным надзором полиции); в 1943– 1945 гг. укрывался в Швейцарии. После Второй мировой войны – член Конституционного (Учредительного) собрания Итальянской республики в 1946–1948 гг., сенатор (1948–1953).
были снова переданы в итальянскую социалистическую фракцию. Временем для запроса назначили ноябрь 1914 года, выступить с запросом должен был либо тот же Маффи, либо — на чем настаивала русская группа, ведшая дело разоблачения, — Моргари [97] Оддино Моргари (1865–1944) – политик-социалист. Русская колония социалистов предпочла Моргари, т.к. полагала, как и их итальянские коллеги, в первую очередь, Б. Муссолини, что масонство и социалистическое движение не совместимы (см. об этом у Колосова выше).
.
Но и на этот раз запросу не суждено было состояться: помешало стихийное бедствие — война, которую весной 1914 года никто не ждал!..
Теперь со времени всех этих событий прошло уже 10 лет. Весь политический облик Италии, как и всего мира, совершенно изменился. За эти годы я не знаю, как это отразилось на населении тех мест, о которых я тут рассказывал. Я с ними давно порвал все связи, и мне странно думать, что там, как и раньше, идет та же жизнь. Иногда оттуда доходят до меня вести, как из потустороннего мира, но редко и отрывками. Быть может, все, о ком я здесь говорил, уже совсем исчезли с лица земли, — некоторые даже наверное. Но если они там по-прежнему, то что делают? Неужели тот же Инверницци и в самом деле не «фашист»? Ведь здесь, у фашистов, он мог бы развернуть все свои таланты, таким ярким лучом блеснувшие во время его службы в царской полиции. Неужели эти чиновники, жившие на 50 и 60 фр. в месяц и завидовавшие ему в легком заработке, не нашли места в тех же хорошо оплачиваемых организациях? А эти арендаторы-крестьяне, ходившие в бюро Казаретты и «принчипе Косс», на Санта-Джулия, за мздой за голосование; эти глубокие собственники и мещане по всей своей природе и по своим социальным корням, — на чьей стороне стоят они теперь, и кому отдали свои вотумы?
Эти горькие вопросы встают невольно передо мной, когда я мысленно перебираю свои итальянские воспоминания.
«Былое» (Москва), № 25, 1924, с. 130–154
Михаил Осоргин
Михаил Андреевич Ильин (Пермь, 1878 — Шабри, 1942), принявший писательский псевдоним Осоргин, — один из самых ярких представителей русского зарубежья. Его первая дореволюционная эмиграция была по сути «самоизгнанием»: эсер с 1904 г., он, тем не менее, был разочарован ходом революционных событий в 1905 г. Покинув Россию, Осоргин поселился в Италии, где и началась его литературная деятельность (в 1911 г. печатно объявил о разрыве с эсерами). Италия вдохновила его на создание интереснейших эссе, печатавшихся в популярных периодических изданиях в России. Во вторую эмиграцию Осоргин отправился поневоле — в 1922 г. он был выслан большевиками на знаменитом «философском пароходе» вместе с другими «опасными» интеллектуалами. Последние двадцать лет его жизни прошли во Франции, где Осоргин уже не ограничивается публицистикой — он пишет романы и повести, имевшие широкий читательский успех. Роман «Сивцев Вражек» (1928) приносит ему европейскую известность [98] См. о нем нашу статью: Талалай М. Г. М. А. Осоргин в двух эмиграциях // Русская общественная библиотека им. И. С. Тургенева – перекресток духовной жизни России и Франции. СПб, 2014. С. 74–80.
.
Приезжий из Италии русский человек, между прочим, рассказывал, что он ненадолго останавливался в местечке на восточной Ривьере — в Кави-ди-Лаванья. Впрочем, теперь это уже не просто «местечко», а довольно оживленный морской курорт, конечно, — летом, а в зимние месяцы — прежняя деревушка; знаю ли я ее?
Прежде знал каждый камушек и всех Терез и Антонио всех возрастов; теперь кое-что из памяти начинает убегать. Не помню, например, как звали сына старухи из табачной лавочки.
Кстати, старуха еще торгует? Я видел в табачной лавочке женщину, но не очень старую, лет под пятьдесят. Вряд ли это та самая, той было тогда…
Легче вспоминать с пером в руках. Той было тогда много, лет семьдесят, ее сыну около сорока, а его молодой жене — двадцать. А познакомились мы ровно тридцать лет тому назад. Значит, старуха уже отдыхает на пригорочке, где есть и русские могилы (например, могила молодого человека, убежавшего из Акатуйской каторги и утонувшего вскоре по приезде в Кави [99] Речь идет о Петре Сидорчуке (1884–1911). 24 апреля 1905 г. в Житомире он застрелил пристава Куярова за подстрекательство к еврейскому погрому; был приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой. По Манифесту 17 октября 1905 г. срок каторги был сокращен, осенью 1910 г. он вышел на поселение и вскоре бежал из России, сначала во Францию, а затем в Италию, где и утонул у берега Кави. См. о нем также в нашем Послесловии.
). А в лавочке торгует теперь та, которой было двадцать лет. А пишет о них тот, которому еще не было тридцати. Я упустил из виду, что года идут.
Об этом местечке на Ривьере писали очень многие, и часто его именем помечались книги, предисловия и газетные статьи на русском языке. И эти строки кой-кем прочтутся с улыбкой: ну, как же, Кави! Неподалеку, в Леванто, и посейчас живет открывший Кави А. В. Амфитеатров [100] Об Амфитеатрове, Качоровском и Лопатине см. в нашем Послесловии.
.
Где-то в СССР мается (всю жизнь маялся!) прекрасный человек Евгений Евгеньевич, фамилии не назову [101] Евгений Евгеньевич Колосов (1879–1937), использовал кличку Коляри – см. его статью и справку о нем выше.
, потому что не знаю, где и как он мается; его заботами и призывами заселилось Кави тогдашними эмигрантами. В Белград шлю поклон кавийскому старожилу, славному экономисту К. Р. Качоровскому, единственному, которого и посейчас помнит по фамилии каждый кавийский коренной житель, хотя ни один из них не произнесет ее правильно [102] По свидетельству А. Данери, кавийцы произносили фамилию как «Каччароски».
; двадцать лет прожил Карл Романович в доме на горе, куда нужно подняться по узкой тропинке от табачной лавки, потом налево, и там, в окно последнего дома можно швырнуть камушек, и недовольное лицо блеснет очками. Уже не прочитает этих строк частый гость Кави В. И. Немирович-Данченко [103] Василий Иванович Немирович-Данченко (1844–1936) – писатель, путешественник, брат известного режиссера Владимира Немировича-Данченко. Эмигрировал после революции в Берлин, затем в Прагу.
. Вот на отличной фотографии, снятой старым публицистом В. Е. Поповым (Владимировым) [104] Владимир Евграфович Попов (псевдоним: В. Владимиров) – писатель, журналист, автор книги «Очерки современных казней» (М., 1906). В Кави жил с 1908 г. вместе со своей женой Софией.
, благодушествует Вас. Иван. [Немирович-Данченко], в компании Германа Лопатина и Григория Петрова, — где-нибудь они сейчас встретились! Герман Лопатин с седой окладистой бородой, с торчащими круглыми белыми манжетами (бедность свою он скрашивал прилежной опрятностью костюма) лежит на приморском камне, на который набегает волна, и помню я не только этого замечательного старика [105] Герману Лопатину тогда было чуть более 60-ти лет.
(его забыть нельзя), но и этот камень. На него набегали волны прибоя за века до нас, будут набегать века после нас; этот камень — граница прекрасного пляжа, на два километра идущего вправо до самой Лаваньи; отсюда хорошо смотреть на домики местечка Кави, которыми поросло подножье прибрежной горы. Досюда доносился голос Ф. И. Шаляпина, когда он пел в доме, неподалеку от станции; молодого Шаляпина! И здесь ночью было хорошо смотреть, как зелено-золотыми искрами вспыхивает вода, можно было, раздевшись, броситься в нее и плыть в расплавленном серебре, кипящем, но холодном. Этого не одобрял Н. С. Тютчев [106] Николай Сергеевич Тютчев (1856–1924) – участник и историк революционного движения, публицист.
, программный человек, для всех принципиально-строгий, для себя оказавшийся более снисходительным: послал длинное и неискреннее прошение и отбыл туда, куда нам доступа не было; земля ему пухом: новая революция не проведала про его слабость и похоронила его с почетом, как старого героя. Знали об этом Герман Лопатин и Евгений Евгеньевич, известный в Кави под именем князя Коляри; а был он простой человек [107] Е. Е. Колосов был дворянином.
, сибиряк, голубоглазый, с калмыцкими скулами, и изучал Михайловского; его трудами изданы последние томы сочинений народника, тогда еще властителя дум. Он же был хранителем всех тайн, архивов, общим советчиком, признанным кавийским старостой. Его сынишка, Пойка, играл с итальянскими ребятишками, которые теперь уже не парни, а степенные люди на возрасте.
Интервал:
Закладка: