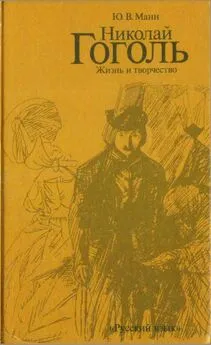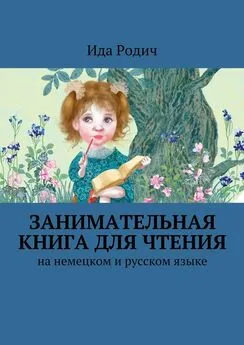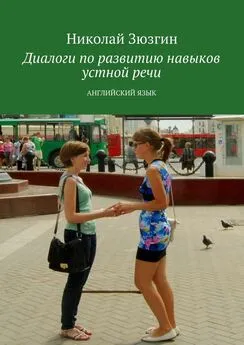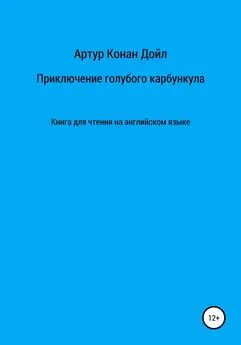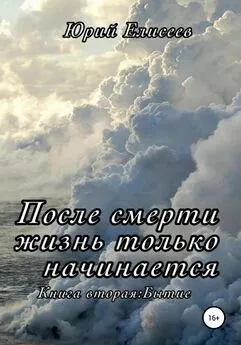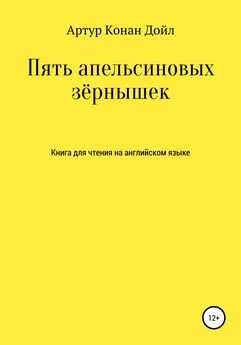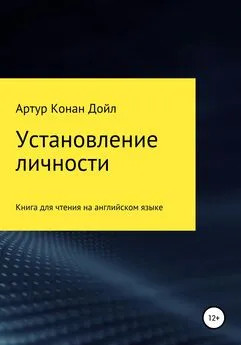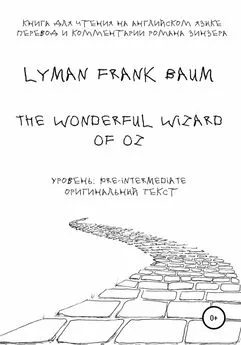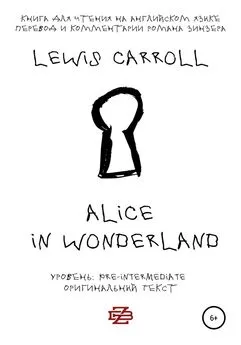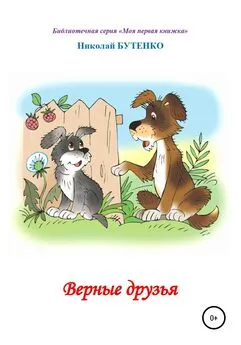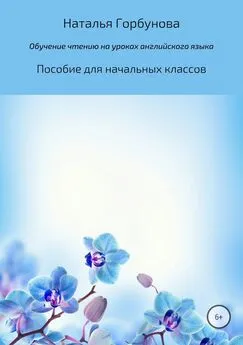Юрий Манн - Николай Гоголь. Жизнь и творчество (Книга для чтения с комментарием на английском языке)
- Название:Николай Гоголь. Жизнь и творчество (Книга для чтения с комментарием на английском языке)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русский язык
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:-200-00073-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Манн - Николай Гоголь. Жизнь и творчество (Книга для чтения с комментарием на английском языке) краткое содержание
Николай Гоголь. Жизнь и творчество (Книга для чтения с комментарием на английском языке) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тем не менее упомянутый разговор послужил стимулом, толчком для работы. Ведь одно дело знать какие-то факты и явления, другое — осознать их как возможный материал для будущего произведения. Положение здесь такое же, как и с "Ревизором": Гоголь и раньше был осведомлён о похожих мистификациях и случаях qui pro quo*, однако лишь в результате беседы с Пушкиным осознал всё это как основу будущей комедии.
Кроме того, как и в "Ревизоре", важно было не только само фабульное зерно, но и некоторые его детали. В случае с "Ревизором" — обман начальствующего лица (у Пушкина — губернатора, у Гоголя — городничего), параллельное развитие любовных отношений главного героя с матерью и дочерью начальствующего лица и т. д. В случае же с "Мёртвыми душами" важно было само направление движения фабулы. По словам Гоголя, "Пушкин находил, что сюжет "Мёртвых душ" хорош для меня тем, что даёт полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров". Иными словами, были предусмотрены перемещения персонажа в пространстве, встречи его со множеством других лиц, многочисленные перипетии* и осложнения вокруг главного события. А вместе с тем предполагался максимально широкий диапазон произведения в целом, включение в него самого разнообразного материала ("вся Россия"). Как говорил Гоголь, "предприятия" с мёртвыми душами.
Дело в том, что "предприятие" оказалось чрезвычайно ёмким, открывало художнику богатейшие возможности. Гоголь тотчас это оценил: ещё на начальной стадии работы он писал В. А. Жуковскому: "Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон". Именно взаимодействие "сторон" придавало произведению такую глубину и многозначность смысла.
Прежде всего "сюжет" поэмы позволял довольно полно представить жизнь России в социальном и, можно даже сказать, хозяйственном отношении. Страна была крепостной, феодальной, и идея купли-продажи крестьянских душ затрагивала главный нерв её существования. И не только в прямом, материальном смысле: ведь количество крепостных душ служило мерой богатства их владельцев, а значит и мерой преуспевания, общественного уважения и самоуважения, предпосылкой личного продвижения, удачливости, карьеры и т. д. и т. п. Так ведь всегда бывает в обществе, где материальные стимулы опутаны и окружены густой сетью самых различных переживаний и эмоций, подчас весьма интимного свойства. И гоголевский взгляд разом подмечает и обнажает весь этот клубок.
При встрече с одним из помещиков, с Ноздрёвым, Чичиков объявляет, что "мёртвые души нужны ему для приобретения весу в обществе". Потом он поясняет, что задумал-де жениться, но родители невесты оказались "пре-амбициозные люди" и хотят, чтобы у жениха непременно было "не меньше трёхсот душ", — фиктивными, мёртвыми душами Чичиков якобы и рассчитывает удовлетворить их требование. Злополучные "триста душ" возникнут потом и во второй части поэмы, но с несколько иной мотивировкой: дядя Чичикова якобы поставил их в качестве условия для передачи имения племяннику: "Пусть он докажет мне, что он надёжный человек, пусть приобретёт прежде сам собой триста душ, тогда я ему отдам и свои триста душ". Всё это вдвойне комично, так как, с одной стороны, далеко от истинного положения дел (мнимая женитьба Чичикова), а с другой — имеет всё-таки реальную подоплёку, ибо от количества душ действительно зависит "вес в обществе". Не случайно второй собеседник Чичикова, генерал Бетрищев, вполне ему поверил. Кстати, и головокружительное превращение Чичикова в городе NN из человека просто приятного, благонамеренного, любезного и т. д. в человека необыкновенного, выдающегося, ставшего предметом всеобщего интереса, восхищения и почитания и т. д. — это превращение прямо зависело от его коммерческих шагов. То есть от того, что Чичиков "миллионщик"*, что он был в состоянии приобрести и, как всем кажется, действительно приобрёл изрядное количество крепостных.
Читатель, однако, с самого начала знает, что приобретение Чичикова фиктивное, знает, какого рода товар служит предметом торгов и купли-продажи, и это открывает ему, читателю, выход к другим сторонам поэмы. Одну из них можно было бы назвать гротескной или даже фантастической, впрочем с одной оговоркой: это скрытая фантастика, ибо прямого участия фантастических сил в "Мёртвых душах" (как, скажем, в "Вечерах на хуторе близ Диканьки") не происходит. Нет здесь ни ведьм, ни колдунов, ни чертей; нет чудесных превращений и немыслимых перелётов, подобных перелёту кузнеца Вакулы из Диканьки в Петербург и обратно. Но в своём роде события в поэме не менее странны и иррациональны. От конкретных людей — живущих или умерших — отвлекается некий условный знак — их имя, пустая оболочка, не осязаемый чувствами звук, а фиктивные покупки Чичикова сулят ему вполне реальное обогащение.
"Всё происходит наоборот", — говорилось в одной из "петербургских повестей", в "Невском проспекте". Всё происходило наоборот в уездном городе из "Ревизора". Всё происходит наоборот и в губернском городе NN, и на тех пространствах Российской империи, которые стали ареной действия гоголевской поэмы.
У Достоевского в романе "Идиот" сказано, что гоголевские типы подчас крупнее и ярче самой жизни. "В действительности типичность лиц как бы разбавляется водой"; в произведении же она выступает в концентрированном виде. Концентрированность персонажей в "Мёртвых душах" особенно высока. Есть что-то монументальное в важнейших лицах поэмы. Манилов, Коробочка, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин изваяны твёрдым резцом, предстают подобно античным скульптурам.
Монументальность гоголевских типов не исключает, однако, их многосторонности, соответствующей многосторонности "мысли" поэмы вообще.
Давно замечено, например, что отношение помещика к своим обязанностям последовательно прослежено во всех главных лицах поэмы.
Манилов даже и думать забыл об этих обязанностях, положившись полностью на жулика-приказчика*.
Коробочка в своём суетливом, крохоборческом накопительстве не небрежёт* мужицкой выгодой: крестьянские избы в её деревне "показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует".
У Ноздрёва — единственного из помещиков — при осмотре деревни ничего не сказано о крестьянах, будто бы их и не существовало. Зато подробно описана конюшня и особенно псарня, где Ноздрёв был "совершенно как отец среди семейства". Можно предположить, что его собакам живётся значительно лучше, чем крестьянам.
У Собакевича "деревенские избы мужиков срублены были на диво", всё прочно, основательно, "без пошатки*, в каком-то крепком и неуклюжем порядке".
В деревне же Плюшкина царили запустение и какая-то особенная ветхость, избы со своими сквозящими крышами и торчащими в сторону жердями "в виде рёбр" невольно внушают мысль о скелете — символе смерти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: