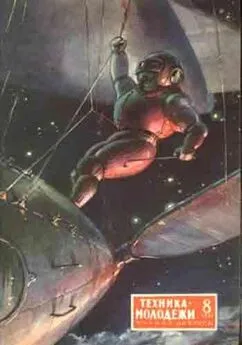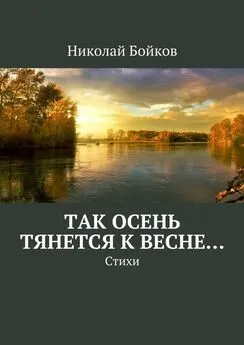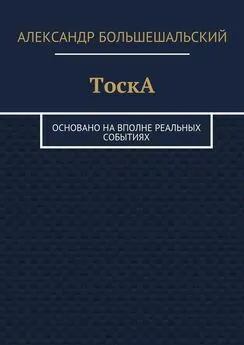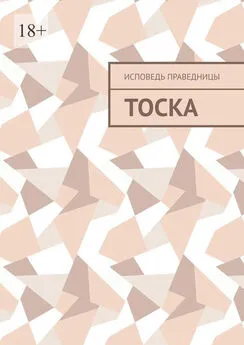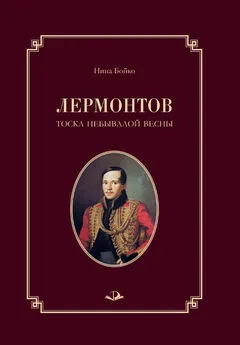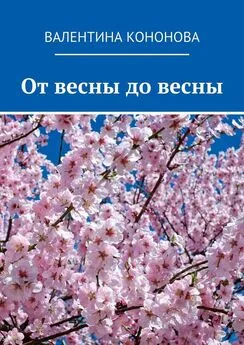Нина Бойко - Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов]
- Название:Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Бойко - Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов] краткое содержание
Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несмотря на штормовую погоду и беспорядок в лагере, император остался доволен войсками. Через неделю отдельные части войск были распущены на зимние квартиры, осенняя экспедиция была отменена.
Мартынов выехал в Екатеринодар, где его ожидало письмо от матери: «Как мы все огорчены, что наши письма, писанные через Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их прочитать, потому что в самом деле тебе бы пришлось читать много: твои сестры целый день писали их... После этого случая даю зарок не писать никогда иначе, как по городской почте; по крайней мере, остается уверенность, что тебя не прочтут». Матушка разъясняла сыну, что пакет, переданный Лермонтову, был запечатан, письма он прочитал от скуки, потом их выкинул, а деньги в карман положил. Иначе откуда бы знал, что в пакет было вложено 300 рублей? Ей, очевидно, в голову не пришло, что папаша Мартынов мог сообщить о содержимом пакета весьма прозаическим образом: «Мишель, вы едете в полк, не возьметесь ли передать от нас Николаю несколько писем и триста рублей?» Но у людей, склонных к мнительности, глаза велики.
Лермонтов в Ставрополе остановился в гостинице и сразу заказал себе офицерский мундир, украденный в Тамани. Из-за этой задержки, в штаб явился не сразу и получил нагоняй, правда, не строгий, так как начальником штаба был его родственник Павел Иванович Петров.
10 октября на Дидубийском поле под Тифлисом Николай I произвел смотр войсковым частям Кавказского корпуса, среди которых были четыре эскадрона Нижегородского драгунского полка, найденные царем в отличном состоянии. В хорошем расположении духа царь проявил многие милости, в том числе и к опальному поэту.
Михаил Юрьевич написал Раевскому: «Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение веселее Грузии... То на перекладной, то верхом я изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже... Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два-три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирный, разумеется), — и чуть не попались шайке лезгин. — Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные; а что здесь истинное наслаждение, так это татарские бани!
Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом я вояжировал. Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии как на блюдечке, и право я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел целую жизнь.
Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе. Да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться –– я уже составлял планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским. Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а право, я расположен к этому роду жизни. Если тебе вздумается отвечать мне, то пиши в Петербург; увы, не в Царское Село; скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фрунта и серьезно думаю выйти в отставку. Прощай, любезный друг, не позабудь меня, и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал».
Из писем Раевского Лермонтов знал, что Святослав Афанасьевич в Олонецкой губернии заинтересовался местным фольклором и этнографией, и хоть в этом отношении был рад за него.
До приказа о переводе в Гродненский полк, оставалось больше месяца. Лермонтов написал акварельный портрет поэта-декабриста Александра Одоевского, с которым познакомился в Новороссийске и вместе приехал в Грузию. Михаил Юрьевич находил много общего в своей и его судьбе.
В толпе людской и средь пустынь безлюдных
В нем тихий пламень чувства не угас:
Он сохранил и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.
В Тифлисе они навестили Александра Чавчавадзе, с которым были знакомы Пушкин и Кюхельбекер, а Грибоедов был женат на его дочери Нине. Одоевский и Грибоедов начинали военную службу в одном полку, и Александр Иванович многое мог рассказать Лермонтову о своем гениальном товарище. Александр Сергеевич Грибоедов –– поэт, пианист, композитор, дипломат –– вовсе не был каким-нибудь сухарем, тем более, в бурной молодости, но после дуэли, где Грибоедов был секундантом и во время которой был убит Шереметев, он, выражаясь словами Пушкина, «почувствовал необходимость расчесться единожды со своей молодостью и круто поворотить свою жизнь».
Пушкин был дружен с Грибоедовым. «Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, –– все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем, как о человеке необыкновенном».
В 1829 году Александр Сергеевич встретил на Кавказе арбу, поднимавшуюся по крутой дороге. «”Откуда вы?” –– спросил я. “Из Тегерана”. –– “Что вы везете?” –– “Грибоеда”. Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис. Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я, было, хотел его успокоить; он мне сказал: “Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей”. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междоусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Нина Бойко - Тоска небывалой весны [М. Ю. Лермонтов]](/books/1074286/nina-bojko-toska-nebyvaloj-vesny-m-yu-lermontov.webp)