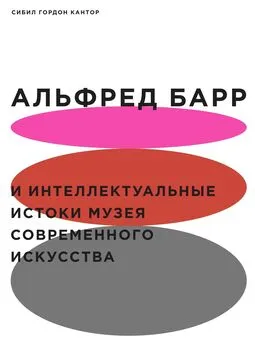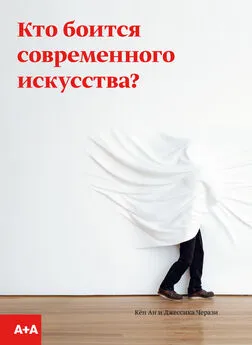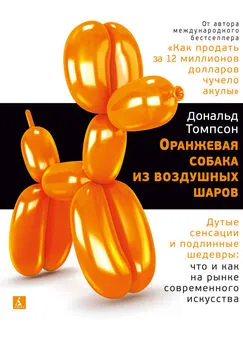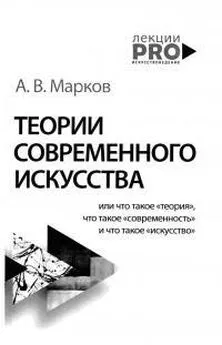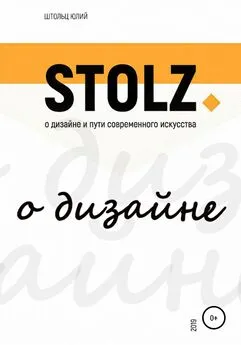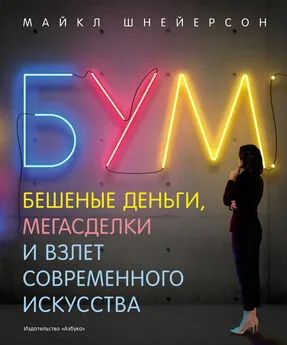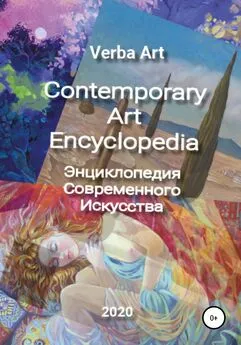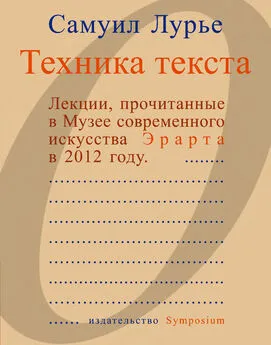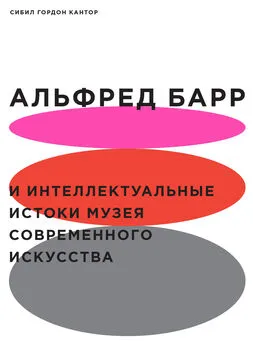Сибил Кантор - Альфред Барр и интеллектуальные истоки Музея современного искусства
- Название:Альфред Барр и интеллектуальные истоки Музея современного искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж»
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-496-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сибил Кантор - Альфред Барр и интеллектуальные истоки Музея современного искусства краткое содержание
Альфред Барр и интеллектуальные истоки Музея современного искусства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И все же в формальных описаниях Барра, если рассматривать их в совокупности, порой видна тяга к эмоциональному постижению. Сравнивая «Радость жизни» Матисса с «Авиньонскими девицами» Пикассо, он писал: «Нет ничего более далекого, чем нимфы Матисса, вальяжно восседающие на заросшем лугу или танцующие вдали в дионисийском хороводе, filles de joie [41]Пикассо в их задрапированном интерьере. У Матисса фигуры рассредоточены и занимают всю ширину и глубину пространства, как бывает на большой балетной сцене; у Пикассо они надвигаются, словно великанши, сгрудившись, как на подмостках кабаре. Манера Матисса — воздушная, легкая, плавная, текучая; у Пикассо сплошь прямые линии и углы, все тесно и неподвижно. Наконец, настроение картины Матисса — радость от наслаждения жизнью — перекликается с названием, зато атмосфера „Авиньонских девиц“ отталкивающая, гнетущая и даже пугающая» {103} .
Не вдаваясь в подробности биографии, нюансы истории и всевозможные влияния, Барр объяснял все повороты стилистики Пикассо безусловным «гением» художника. Это интуитивное чутье Барра стало определяющим в его методе. Предполагалось, что произведение искусства должно рассматриваться самостоятельно, а его органическое право на существование реализуется в идеалах «свободы», «истины» и «совершенства». Исконная сила творческой интуиции в начале XX века составляла основу сочинений таких философов, как Конрад Фидлер и Анри Бергсон, а также современник Барра Жак Маритен. Сам Барр однажды написал:
Аргумент «порядка» как таковой представляется мне слабым, когда применяется <���…> к произведениям искусства. Порядок может быть интуитивным — и я бы сказал, что в искусстве самый стройный порядок скорее интуитивен, чем рационален. Художники вправе устанавливать собственные визуальные критерии, и критерии Поллока, Клайна или Мазеруэлла так же состоятельны, как, скажем, критерии Вийона или Файнингера, в чьих работах порядок очевиден. Словом, то, что для одного — порядок, для другого — хаос; <���…> или, лучше сказать, чей-то порядок для другого — тюрьма {104} .
Творчество Пикассо позволяет более полно представить себя в виде схемы, состоящей из отдельных управляемых блоков с их формальными взаимосвязями, чем, быть может, наследие любого другого художника XX века; да и психобиографический фактор сделал свое дело.
Барр увидел полотно «Танец» 1925 года, с которого началось увлечение Пикассо сюрреализмом, в галерее Тейт. Он почувствовал, что по сравнению с «Тремя музыкантами», искаженные образы которых «объективны и формальны», в «Танце» неистовая экспрессия конвульсивной фигуры слева «никак не добавляет композиции эстетической цельности — сколь бы ни впечатлял холст с сугубо формальной точки зрения». В глазах Барра «Танец» стал для Пикассо «поворотом, <���…> почти таким же решительным», как «Авиньонские девицы» (слово «почти» снимает непреложность утверждения). Эта вещь, и особенно фигура слева, как писал Барр, предвосхитила более поздние периоды, в которых «тревожные энергии усиливают или, в зависимости от точки зрения, подменяют собой непрестанные поиски [Пикассо] в области формы» {105} .
Вклад Барра в изучение творчества Пикассо безусловен, но главной его книгой считается все-таки монография о Матиссе. В 1954 году книга «Матисс: его творчество и зрители» вышла с посвящением трем наставникам Барра — Мори, Мейтеру и Саксу, а также с примечанием «работа продолжается»; она обеспечила автору репутацию ведущего критика на двадцать лет вперед, став беспрецедентным исследованием: лишь недавно отдельные статьи подверглись научному пересмотру и были дополнены. Монография Барра раскрывает внутреннюю природу творчества Матисса благодаря скрупулезному анализу и сопоставлению его произведений в их взаимосвязи с культурно-историческим фоном. Исследование охватывает также реакцию критиков и публики. На раннем этапе творчества о Матиссе хвалебно отзывались «верные друзья и покровители» — Штейны, Ханс Пуррман, Эдвард Стайхен, Марсель Самба и Сергей Щукин. «Они были главной опорой, — пишет Барр, — но не публикой, под которой мы подразумеваем всех, кто откликался на его творчество, <���…> его учителей и однокашников, коллег по цеху и первых покупателей его академических натюрмортов, а вслед за ними — критиков, начинаших посматривать на его картины во время больших ежегодных художественных Салонов, и, наконец, арт-дилеров». Барр использовал отзывы живописцев как «контрапункт в последовательном описании и анализе творчества Матисса» {106} . Кроме того, в книгу вошла биография Матисса, хронологически разделенная на периоды, она подводит читателя к созданным в то или иное время полотнам. Сначала Барр собирался просто пересмотреть и обновить каталог выставки 1931 года, но задача становилась все масштабнее по мере того, как он усердно формировал монументальный образ этой иконы модернизма.
Джон Элдерфилд, хранитель музея и специалист по Матиссу, называет Барра «нашим общим отцом» (имея в виду будущих исследователей творчества художника) и хвалит директора-основателя, проделавшего «потрясающую работу по воспроизведению и упорядочению матиссовского наследия». И добавляет: «Исходя из разноплановых, противоречивых и зачастую далеко не полных свидетельств, Барр осуществил мастерский обзорный анализ, который при этом очень интересно читать, и действительно впервые дал вполне обоснованную идею Матисса» {107} . Элдерфилд предупреждает, что на датировку вещей Матисса и последовательность, в которой их описывает Барр, ныне ориентироваться нельзя, как бы строго Барр ни придерживался принципов объективности и документальной точности. Но эти сложности Барр предвидел: «Расположить произведения Матисса в правильном хронологическом порядке оказалось <���…> нелегко» {108} . Сам Матисс мало чем мог помочь, поскольку не придавал значения датировке работ. Через Пьера Матисса и Джона Ревалда Барр передал художнику список вопросом на семи листах, но ответы на них давали в основном члены его семьи.
Тем не менее Барр считал, что «четкая историческая последовательность необходима для понимания и оценки как эволюции, так и значимости любого художника» {109} . Несмотря на неточности, хронология картин Матисса, составленная Барром, была вполне основательной — если не в деталях, то, по крайней мере, в общих чертах. Джек Флам разделяет творчество художника на пять периодов: фовизм, 1900–1908; экспериментальный период, 1908–1917; Ницца, 1917–1929; «обновленная простота», 1929–1940; «сведéние к основам», 1940–1954 {110} . Что в целом соответствует хронологии Барра, за исключением нескольких несущественных различий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: