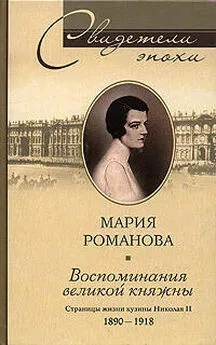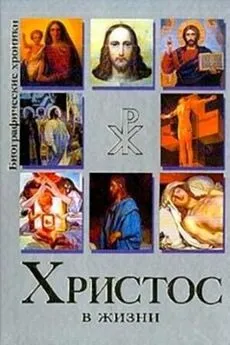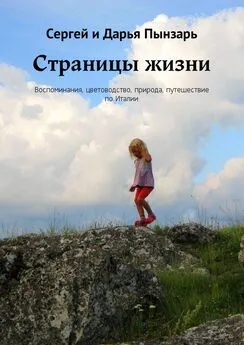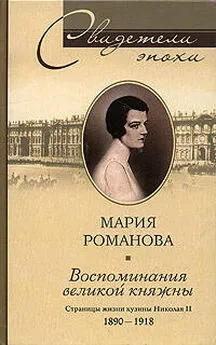Пётр Бартенев - О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников
- Название:О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1992
- Город:Москва
- ISBN:5—268—00775—0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пётр Бартенев - О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников краткое содержание
В сборник включены как основные сочинения Бартенева о Пушкине, так и отдельные заметки, разбросанные по страницам «Русского Архива», наиболее значительные из собранных им в разные годы материалов.
Для детей старшего школьного возраста. Составитель, автор вступительной статьи и примечаний Аркадий Моисеевич Гордин
Рецензент — доктор филологических наук Р. В. Иезуитова
lenok555
мной
О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так думал или так хотел думать Пушкин на 22-м году жизни. Столкновения с людьми успели охолодить от природы мягкое и доверчивое сердце его. Возвращаясь к нашему хронологическому рассказу, повторим замеченное выше, что именно в то время, о котором идёт у нас речь, т. е. весною 1821 года, видно, как Пушкин оглядывается на самого себя, хочет привести в порядок и мысли, и отношения, и дела свои. Самая наружность его несколько изменилась противу прежнего. До сих пор он ходил в молдаванской шапочке или фесе, с обритою головою — следствие горячки. Теперь, по замечанию одного приятеля, который с ним встретился после трёхмесячной отлучки, «фес заменили густые, тёмно-русые кудри, и выражение взора получило более определённости и силы» [395]. Такого рода минуты приходили к нему довольно часто, но молодость и пылкость брали своё, и он мигом выбивался из ровной колеи жизни.
Тогда жил некоторое время в Кишинёве поэт В. Г. Тепляков,впоследствии приобретший некоторую известность своими Фракийскими элегиями и книгою Воспоминания о Болгарии.Пушкин с ним сблизился. Они вместе восхищались Байроном. В обыкновенной жизни Тепляков был большой оригинал, ходил в каком-то странном наряде, и везде носил с собою тяжёлую дубинку с надписью: Memento mori. Пушкин прозвал его Мельмотом-скитальцем [396] .Тепляков также вёл дневник, и 1 апреля 1821 г.записал: «Вчера был у Александра Сергеевича. Он сидел на полу и разбирал в огромном чемодане какие-то бумаги. „Здравствуй, Мельмот, сказал он, дружески пожимая мне руку; помоги, дружище, разобрать мой старый хлам, да чур не воровать!“ Тут были старые, перемаранные лицейские записки Пушкина, разные неоконченные прозаические статейки, стихи и письма Дельвига, Баратынского, Языкова и других. Более часа разбирали мы все эти бумаги, но разбору конца не предвиделось. Пушкин утомился, вскочил на ноги и, схватив все разобранные и неразобранные нами бумаги в кучу, сказал: „Ну ихк чёрту!“, скомкал их кое-как и втискал в чемодан».
Тепляков выпросил себе на память стихи Старица-пророчицаи небольшую статью в прозе о Байроне. «Что тебе за охота возиться с дрянью,— заметил Пушкин: — статейка о Байроне не помню когда написана, а стихи Старица — лицейские грехи,я писал их для Дельвига. Пожалуй, возьми их, да чур нигде не печатать, рассержусь, прокляну навек» [397].
Заметка о Байроне важна в том отношении, что Пушкин хочет оправдать своего любимого поэта от обвинений в безверии [398]. Впоследствии Пушкин её переделал и она появилась в Литературной ГазетеДельвига (1830, № 53). Любопытно, что Пушкин внимательно следил за жизнью Байрона и в одном отрывке из записок своих замечает: «Байрон много читал и расспрашивал о России. Он, кажется, любил её и хорошо знал её новейшую историю. В своих поэмах он часто говорит о России, о наших обычаях. Сон Сарданапалов напоминает известную политическую карикатуру, изданную в Варшаве во время Суворовских войн. В лице Нимврода изобразил он Петра Великого. В 1813 году Байрон намеривался через Персию приехать на Кавказ» (V, 22) [399].
Весною 1821 г. Пушкин был свидетелем события чрезвычайного и имевшего важное историческое значение. 11 марта кн. Александр Ипсиланти, с толпою сообщников, перешёл Прут, вступил в Молдавию и поднял знамя восстания против турок. Можно себе представить, как много было толков в Кишинёве, когда этот флигель-адъютант русской службы, приятель М. Ф. Орлова, пошёл воевать с целою Турецкою империею. Многие не могли поверить, чтоб из этого что-нибудь вышло. Пушкин один из первых понял и оценил всю важность начального греческого движения. «2 апреля, вечер провёл у Н. Д. Прелестная Гречанка,— отмечает он в своём дневнике.— Говорили об А. Ипсиланти; между пятью Греками я один говорил как Грек. Все отчаивались в успехе предприятия этерии; я твёрдо уверен, что Греция восторжествует и что 2.500.000 Турок [400]оставят цветущую страну Эллады законным наследникам Гомера и Фемистокла. С крайним сожалением узнал я, что Владимиреско не имеет другого достоинства кроме храбрости необыкновенной; храбрости достанет и у Ипсиланти» (V, 9). В Кишинёве с напряжённым вниманием ждали, чем кончится дело. Русские баталионы, под начальством Болховского, расставлены были на самом Пруте, на другом берегу которого происходила знаменитая схватка под Скулянами, и всё это в нескольких часах пути от Кишинёва. Война с Турцией казалась неизбежною; отношения к ней держались на волоске. Г. Анненков, имевший доступ к бумагам Пушкина, говорит (Материалы, стр. 95), что он вёл журнал греческого возрождения, но что вскоре бросил его. Если это было действительно так, то, может быть, этот журнал впоследствии пригодился Пушкину для его статьи об одном из участников молдавского движения, Кирджали. В ней находятся любопытнейшие подробности, собранные и записанные, очевидно, из первых рук. Ипсиланти изображён именно так, как его после обличила история. Набросанное Пушкиным описание дела под Скулянами имеет все достоинства подлинной исторической записки [401]. Рассказывая про арнаутов, бежавших в Россию после молдавского разгрома, Пушкин прибавляет: «Их можно всегда было видеть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с длинными чубуками во рту, прихлёбывающих кофейную гущу из маленьких чашечек» (V, 495).
Греки были разбиты, Молдавия успокоилась, и русские войска не двинулись в поход, как можно было ожидать. Наступило затишье, и Пушкин опять соскучился в Кишинёве. Его живому нраву необходима была частая смена впечатлений. Ещё в марте 1821 г. он пишет Дельвигу: «Скоро оставляю благословенную Бессарабию; есть страны благословеннее… разнообразие спасительно для души».
В половине мая видим его в Одессе. Просто ли захотелось ему воспользоваться близостью и взглянуть на новый, весёлый город, или ездил он туда для морского купанья, до которого был великий охотник, только Инзов дал ему новый отпуск, и 15 мая, как показывают его тетради, он пишет в Одессе эпилог к Кавказскому Пленникуи посвящение поэмы H. Н. Раевскому-сыну (Материалы Анненкова, стр. 80). Поэма действительно принадлежала Раевским, хотя Пушкин и замечает: «Н. и А. Раевские и я, мы вдоволь над ним посмеялись» (V, 29). Посвящение Кавказского Пленника, кажется нам, по стиху довольно небрежно и слабо в сравнении с самою поэмою.
Когда мне бедствия грозили,
Я при тебе ещё спокойство находил,
Я сердцем отдыхал: друг друга мы любили,
И бури надо мной свирепость утомили;
Я в мирной пристани богов благословил.
Нам ничего неизвестно об этой первой поездке Пушкина в Одессу; вероятно, она была непродолжительна [402].
В июле месяце, именно 18-го числа 1821 года, в Кишинёв пришло известие о смерти Наполеона (23 апреля ст. стиля). Нам теперь трудно составить понятие, как поразительна была эта весть для тогдашних людей. Целая эпоха, целый мир событий и воспоминаний сосредоточивались и олицетворялись в одном этом человеке, который и в далёкой ссылке, с своего острова, продолжал занимать современников своими отзывами и мнениями. Люди всё ещё прислушивались к голосу великого властелина. При нём всё необыкновенное казалось возможным. Чудесный пример его возбуждал отвагу в молодых людях; ибо никакое начинание не было дерзким в сравнении с его поприщем. Роковое значение Наполеона в судьбах нашего отечества ещё сильнее приковывало к нему внимание лучших русских людей. Пушкин привык с детства останавливать свои думы на нём, и в Лицее писал стихи по случаю возвращения его с острова Эльбы. С нашествием французов лично для Пушкина связывались яркие воспоминания его лицейской жизни. Теперь, когда не стало этого властителя его дум,он соединил в одном произведении всё, что накопилось в течение лет от размышлений о нём и от разнообразного чтения о Наполеоне. Стихи Чудесный жребий совершилсяпо внешним приёмам вышли чем-то вроде оды. Что касается внутреннего содержания, то можно смело утверждать, что нигде в Европе, ни тогда, ни долго после, не было сказано о Наполеоне ничего лучшего и благороднейшего. Надо припомнить, что Пушкину в этом случае предстояла особенная трудность. Кто не писал о Наполеоне, кто не клял его памяти? Можно собрать целые тома русских стихотворений о нём, и Пушкину пришлось писать на эту, по-видимому избитую, тему [403]. Надо было или вовсе не приниматься, или создать что-нибудь особенное. Высоконравственная мысль оды уже одна делает величайшую честь поэту. В последней строфе он захотел придать кончине Наполеона современный политический смысл. Впрочем, эту последнюю идею, о невозможности после Наполеона всемирного владычества, Пушкин думал развить в особом стихотворении, которое не кончено им, но, по справедливому замечанию Анненкова, принадлежит несомненно к тому же времени и вызвано известием о смерти великого человека. Этот превосходный отрывок стихотворения, в котором Наполеон сопоставлен с императором Александром, и как можно наверное догадываться, должен был передать ему завещание о свободе мира, особенно любопытен для нас теми строфами, в которых описана физиономия Наполеона. Они показывают, как Пушкин прилежно вглядывался в его портреты и как глубоко его образ запечатлелся в душе нашего поэта:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: