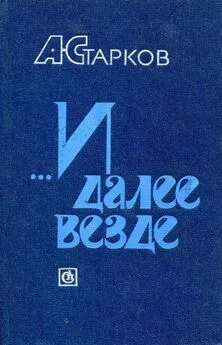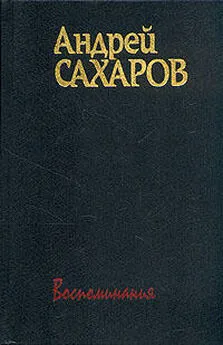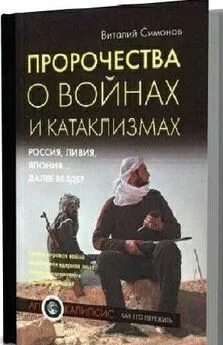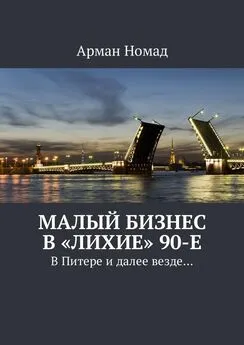Абрам Старков - ...И далее везде
- Название:...И далее везде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Старков - ...И далее везде краткое содержание
А. Старков прожил интересную жизнь, полную событиями и кипучей деятельностью. Он был журналистом, моряком-полярником. Встречался с такими известными людьми, как И. Папанин. М. Белоусов, О. Берггольц, П. Дыбенко, и многими другими. Все его воспоминания основаны на достоверном материале.
...И далее везде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Укачавшихся в лежку все прибавлялось. И матросы устроили в кормовом грузовом трюме, где качка ощущалась в меньшей степени, нечто вроде лазарета, расстелив матрацные лежанки и закрепив как-то брусья между ними, чтобы не расползались. Кто мог, сам добирался до «укачаловки», как назвали это помещение, кого на руках вносили. За врача, за фельдшера, которые сами укачались, за санитарку была Марфа-буфетчица, принявшая на себя все заботы о страдальцах, усиленно снабжая лимонным соком тех, кто еще мог раскрыть рот. Ее соавторша прачка Настя лежала в бесчувствии. (Позже, когда все оклемались, ох и было ей что постирать!) Вся киноэкспедиция в составе трех человек улеглась недвижно в «укачаловке». Прилег, правда ненадолго, и сам Папанин, не выдержавший качки в своей каюте на верхней палубе: морская болезнь не разбирает кто Герой, а кто не герой, кто начальник, а кто подчиненный.
К описанному в рейсовом донесении серьезному урону, который нанесла штормовая качка кораблю, прибавились неприятности помельче, но все же ощутимые. Севморпутские снабженцы хотели обрадовать седовцев, столько времени проживших на консервах, на концентратах, свежей, натуральной пищей. С этой целью на флагмане был оборудован, в частности, курятник, обильное население которого беззаботно вело себя, весело и шумно квохча, не догадываясь о своей участи, во всяком случае, не предвидя, что она свершится ранее, чем намечалось на камбузе, и другим способом. В качку несчастных пернатых расшвыряло с насестов, они летали-летали, сталкиваясь друг с другом на узком пространстве, бились крыльями и в поиске спасения застревали головами или лапками в прогалах меж переборками и горячими трубами парового отопления. Горестные клики плененных птиц тонули в шуме заливающих палубу волн. Спасти бедняг не удалось — железную дверь в курятник заклинило, а когда с окончанием качки (конец качки для ледокола с его округлым, яйцевидным корпусом понятие относительное, он продолжает по инерции слегка покачиваться даже во льду, даже у портового причала) дверь открыли, печальная картина явилась взору: все куры повисли как вздернутые на крючках, ни одной живой.
Вспоминая этот рейс, раскладываю перед собой снимки, подаренные мне когда-то Митей Дебабовым, тассовским фотокорреспондентом. У ТАССа была монополия на официальное фотографирование в походе. Щелкали-то все, кто прихватил с собой аппарат. А профессионал был один — Дебабов. Не считая киношников. Слезно просился у Ивана Дмитриевича в экспедицию приехавший в Мурманск Виктор Тёмин из «Правды», уже тогда известный редкостной способностью всех обставить в погоне за сенсацией, как опередил он позже, под конец войны, своих коллег в Берлине, первым доставив в Москву снимок водруженного над рейхстагом советского знамени; Темину удалось прежде других выпросить у маршала Жукова специальный самолет для этого… Папанина он не уговорил, но уверенности, что настырный соперник смирится с отказом, у Дебабова не было. И, по его просьбе, Иван Дмитриевич приказал тщательно обыскать все потайные места на ледоколе, вплоть до заваленных углем бункеров, где мог бы укрыться Темин, имевший уже в этом опыт. Во время челюскинской эпопеи, будучи еще фотографом какой-то провинциальной газеты, не допущенный в поезд с челюскинцами, следовавший через город, где Виктор работал, он спрятался в тендере под грудой угля и, обнаружившись в пути, грязный, весь в угольной пыли, сделал для своей газеты снимки, настолько удачные, что их напечатала и «Правда», забравшая Темина к себе в штат… Папанину доложили, что искомый фотозаяц не найден, но продолжавший беспокоиться Дебабов окончательно убедился в отсутствии своего конкурента на корабле лишь в качку, которая, конечно, вытряхнула бы Темина из любого укрытия.
Снимал Дмитрий Дебабов превосходно. Он был скорее художник, чем репортер, хотя в соперничестве со сверхшустрым Теминым и одолел его. Оставшись, как профессионал, вне конкуренции в рейсе, Митя фотографировал (этот более удлиненный, статичный глагол применимее к нему, чем «снимал») неторопливо, с отбором. Я с особым удовольствием разглядываю его сюжеты: на некоторых снимках случайно, мельком, на заднем плане ухвачена и моя личность. А на двух я зафиксирован даже крупным планом, вдвоем с Папаниным. Рядом с начальством я очутился при следующих обстоятельствах. Типография нашей многотиражки занимала маленькую надстройку в кормовой части возле «Триумфальной арки», как называли два высоких, соединенных поверху перекладиной металлических столба для крепления самолетов. Проникать в типографию, когда палуба и все ее оборудование покрылись после отчаянной качки толстым ледовым панцирем, а матросы не успели еще его сколоть, было делом довольно рискованным. Гаврюша Сумин, наборщик и печатник, там, в типографии, и жил это время, покидая свое логовище лишь по чрезвычайным надобностям. Мне же часто приходилось курсировать туда-сюда, уподобляясь альпинисту, штурмующему ледник в горах. Однажды, подписав очередной номер, я высунулся из дверей типографии, чтобы начать путешествие в носовую каюту, и был ослеплен вспышкой магния в темноте: Дебабов фотографировал на 40-градусном морозе Папанина около буксирной лебедки, превратившейся в сказочное ледяное сооружение и потому избранной фоном для съемки. Я пытался прошмыгнуть незамеченным, но поскользнулся и, едва удержавшись на ногах, угодил в объятия Ивана Дмитриевича.
— Попался, браточек! — сказал он. — Составляй компанию. Будем вместе сниматься, — и начал приготовлять меня к съемке, осыпая снегом, дабы я не контрастировал с ним, уже заснеженным с головы до ног в своей тяжелой медвежьей дохе.
Вот и не контрастирую: на фото у меня вполне арктический вид в покрытой снежными хлопьями «француженке» (под этим названием почему-то значились в инвентарной описи самые обычные полушубки), и только непонятно, отчего же совершенно не тронуты снегом мои штаны и сапоги, — это уж недогляд Папанина, «гримировавшего» меня.
Рейс в разгар полярной ночи (если можно сказать про почти круглосуточную тьму с получасовым сумеречным просветом, что она разгорается) в высокие широты, в Гренландское море, куда в такую пору — конец декабря! — никто еще не решался заплывать. Рейс за кораблем, вмерзшим во льды так прочно, что не мог двигаться самостоятельно даже на чистой воде, и его пришлось тащить на буксире в облепившем днище ледяном корыте, которое растаяло уже далеко южнее, за Шпицбергеном; мы заходили в Баренцбург по просьбе тамошней советской колонии, торжественно встретившей седовцев, а заодно и нас. «Корыто» рассосалось лишь в приближении к незамерзающему Кольскому заливу, да и в Мурманске, в порту, с кормы «Седова» еще продолжали свисать последние, самые застарелые арктические сосульки к восторгу бегавших по причалу мальчишек… Словом, поход флагмана был нелегкий — вслед за безудержной шестидневной качкой мы испытали мощное сжатие в торосах, заставившее Белоусова объявить аврал в предупреждение высадки на лед, но все обошлось, корпус выдержал атаку льдов. Нелегкий рейс, и одновременно веселый, шумный, с Папаниным на борту, человеком мировой славы, отблески которой как бы ложились и на нас. Он постоянно что-то придумывал для поднятия, как говорил, духа, энтузиазма. Объявил матросам, что тот из них, кто первым углядит огонь с «Седова», будет представлен к правительственной награде. Повезло рулевому Сереже Полухину, он уже сдал вахту, уже спускался по трапу с мостика, обернулся вдруг, будто кто толкнул в спину, и увидел чуть различимый, просочившийся сквозь двойную завесу — темноты и тумана, — дрожащий в робости световой сигнал с мачты дрейфующего судна. Папанин сдержал обещание: Полухин получил «Знак Почета», орден, на который, существуй он в XV веке, мог бы претендовать и матрос со «Святой Марии», каравеллы Колумба, первым увидевший землю… По затее Ивана Дмитриевича, гастрономы Ленинграда и Москвы прислали под Новый год радиозапросы, что бы каждый из нас хотел заказать родным и знакомым. Надо мной, не знаю уж, вольно или невольно, кто-то подшутил в магазине, перепутав адреса. Торт, предназначенный мной приятельнице с соответствующей нелепой дарственной надписью из крема, вручили моей матери и наоборот, чем смущены были оба адресата, и в большей степени все-таки мама. Приятельница-то, полагаю, и прежде догадывалась о наличии у меня мамы, а вот для нее, не посвященной в мои романтические ситуации, чужой торт явился полной неожиданностью, как удар из-за угла…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: