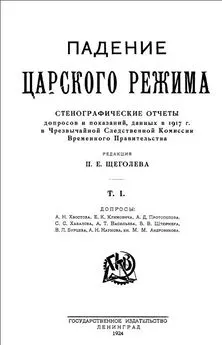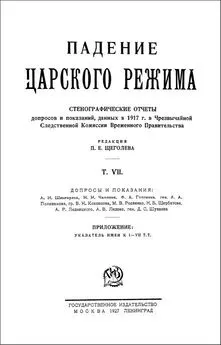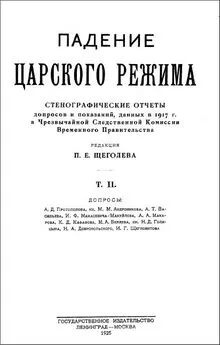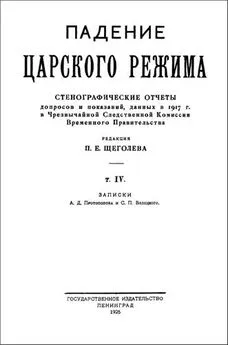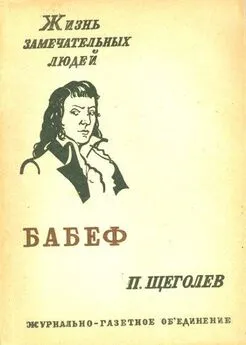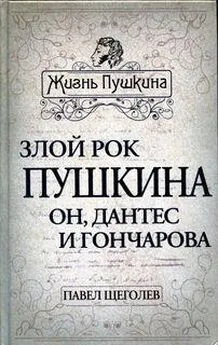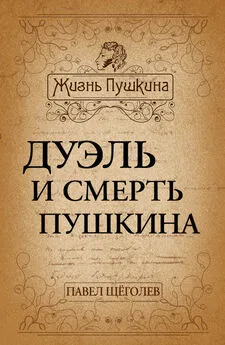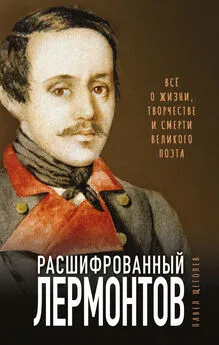Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]
- Название:Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы] краткое содержание
Вступительная статья и примечания Янины Леоновны Левкович.
Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
125
«Я ранен» (фр.). В воспоминаниях Данзаса — единственного свидетеля, оставившего свои воспоминания о поединке, этот эпизод передан так: «По сигналу, который сделал Данзас, махнув шляпой, они начали сходиться.
Пушкин первый подошёл к барьеру и, остановясь, начал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя до барьера одного шага, выстрелил, и Пушкин, падая, сказал:
— Je crois que j’ai la cuisse fracassée (Мне кажется, что у меня раздроблена ляжка)». ( П. в восп. 1974. Т. 2. С. 327).
126
Недоумевая, почему Арендт должен был вернуть записку царю, Щёголев не учитывал того, что оставить записку в руках подданного значило бы сделать из неё «рескрипт», т. е. оказать такую «высочайшую» милость, которой Пушкин в глазах Николая I не мог быть достойным. Дальше Щёголев отмечает, что содержание записки варьируется в свидетельствах друзей Пушкина, и выражает сомнение в существовании записки. Доводы, которые приводит Щёголев, неубедительны. Николай приказал прочесть записку Пушкину, что и было исполнено Арендтом, а друзья только могли слышать её текст или знать в пересказе от лиц, его слышавших. Так, например, в пересказе передаёт содержание записки Е. А. Карамзина в письме к сыну Андрею: «…государь написал ему карандашом записку в таких выражениях: *„Если судьба нас уже более в сём мире не сведёт, то прими моё последнее и совершенное прощение и последний совет: умереть христианином! Что касается до жены и детей твоих, то можешь быть спокоен, я беру на себя устроить их судьбу“*» ( Карамзины. С. 170). Совет царя исполнить «христианский долг» не имел решающего значения. Записка Николая I только ускорила действие, на которое Пушкин уже дал согласие (см. вступ. статью [См. последнюю часть. — Прим. lenok555 ] и примеч. к воспоминаниям И. Т. Спасского [См. «Документы и материалы», II, 3. — Прим. lenok555 ], с. 176 наст. изд. {138} ). Большинство современников было тронуто жестом Николая I. Так, например, Д. Ф. Фикельмон писала: «Император, всегда великодушный и благородный в тех случаях, где нужно сердце, написал ему эти драгоценные строки» ( П. в восп. 1974. Т. 2. С. 144). Но далёкие от Пушкина светские люди относились к этому иначе. Характерна запись в дневнике П. Д. Дурново: «Это превосходно, но это слишком» (Теребенина Р. Е. Записи о Пушкине, Гоголе, Глинке, Лермонтове и других писателях в дневнике П. Д. Дурново // П. Исслед. Т. 8. С. 262). [Возврат к комментариям {250} {389} ]
127
Пушкин не «встретил Данзаса на улице», а вызвал его к себе. См. с. 155. наст. изд. [См. ниже в § 8. — Прим. lenok555 ]
128
За что именно просил Пушкин для себя прощения, разъясняет письмо Е. А. Карамзиной к сыну Андрею от 1 февраля 1837 г.: «После истории со своей первой дуэлью <���то есть после ноябрьского конфликта. — Я. Л. > П<���ушкин> обещал государю больше не драться ни под каким предлогом, и теперь, когда он был смертельно ранен, он послал доброго Жуковского просить прощения у гос<���ударя> в том, что он не сдержал слова» ( Карамзины. С. 170). Такое обещание Пушкин, очевидно, дал царю во время аудиенции 23 ноября (см. примеч. на с. 543 наст. изд. {359} ). [Возврат к комментариям {290} {327} ]
129
эпиграмма против Аракчеева — «Всей России притеснитель».
сатира на Уварова — стихотворение «На выздоровление Лукулла», напечатанное с подзаголовком «Подражание латинскому».
ответ Булгарину — «Моя родословная».
130
Пушкин остаётся… в Одессе. Гогенлоэ не знает о ссылке Пушкина в Михайловское.
131
Сын Н. И. Греча Николай умер 25 января 1837 г.
132
о прощании с Карамзиной см. примеч. на с. 455 {377} .
133
Скажи, что я ему желаю… Последняя фраза, скорее всего, придумана Жуковским.
В письме Вяземского к Булгакову Пушкин говорит эти слова не Жуковскому, а Арендту в момент получения записки от царя. Истину этого факта Вяземский подкрепляет заявлением: «Эти слова слышаны мною и врезались в память и сердце моё по чувству, с коим они были произнесены» ( РА. 1879. Кн. 2. С. 441). Но из сообщения доктора Спасского (см. выше, с. 176 наст. изд. [См. «Документы и материалы», II, 3, A. — Прим. lenok555 ]) ) видно, что Арендт говорил с Пушкиным наедине. Всё это позволило Щёголеву поставить под сомнение сам факт произнесения Пушкиным этих слов, а текстологический анализ автографа Жуковского, проделанный им, позволил усомниться и в точности приведённых слов благодарности и пожеланий Пушкина царю. Включить в письмо эту придуманную фразу Жуковского вынудили следующие обстоятельства: 29-го вечером он (тогда ещё он не думал о письме, которое потом напишет отцу поэта и которое будет распространяться в списках, а потом появится в «Современнике») представил Николаю I проект записки о милостях семье Пушкина (см. наст. изд., с. 190 [См. «Документы и материалы», III, 2, 1. — Прим. lenok555 ]) ). Туда он и вписал приведённую фразу: заботясь о семье поэта, он как бы выполнял волю Пушкина. Это была плата за благополучие семьи покойного. Фраза эта появилась в следующем контексте: после пожеланий, касающихся материальных дел семьи и издания сочинений Пушкина, Жуковский пишет: «К вышесказанному осмелюсь прибавить личную просьбу. Вы, государь, уже даровали мне высочайшее счастие быть через вас успокоителем последних минут Карамзина. Мною же передано было от вас последнее радостное слово, услышанное Пушкиным на земле. Вот что он отвечал, подняв руки к небу и с каким-то судорожным движением (и что вчера я забыл передать В<���ашему> В< еличеству >): как я утешен! скажи государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю счастия его в сыне, что я желаю счастия [его] в счастии России. И так, позвольте мне, государь, и в настоящем случае быть изъяснителем вашей монаршей воли и написать ту бумагу, которая должна будет её выразить для благодарного, отечества и Европы» (см. наст. изд., с. 191). Дальше шли снова денежные просьбы. Попытка Жуковского убедить царя, что он «забыл» передать ему пушкинские слова, не удалась, а скорее раздражила его — отсюда и убеждение, что если бы не он, царь, то Пушкин умер бы без исповеди, как нехристь и бунтовщик. Однако написанные Жуковским однажды слова неизбежно должны были войти и в следующие документы — в публикацию в «Современнике», и в письмо, не предназначенное для печати. Т. е. повторился случай с секундантом — Данзасом (см. с. 127 наст. изд. [273]), когда свидетельство, выдуманное, вынужденное обстоятельствами, обрело силу документа. [Возврат к комментарию {145} ]
134
великая княгиня — Елена Павловна, жена вел. кн. Михаила Павловича. Её записки к Жуковскому, наполненные тревогой за Пушкина, от 27—29 января напечатаны в «Литературном наследстве» (М., 1952. Т. 58. С. 134—135). Впоследствии Жуковский вспоминал: «Великая княгиня, очень любившая Пушкина, написала мне несколько записочек, на которые я давал подробный отчёт её высочеству, согласно с ходом болезни» (Жуковский В. А. Соч. 8-е изд. Спб., 1885. Т. 6. С. 17). Отношение Е. П. к Пушкину видно из её письма к мужу в Лозанну: «Я видаю иногда Вяземского, как и твоих протеже — семью его, и я приглашала два раза Пушкина, беседа которого кажется мне очень занимательной» (подлинник по-французски. — ЛН. Т. 58. С. 135).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Павел Щёголев - Дуэль и смерть Пушкина [Исследование и материалы]](/books/1078686/pavel-chegolev-duel-i-smert-pushkina-issledovanie.webp)