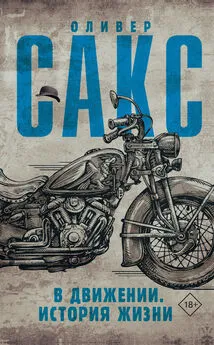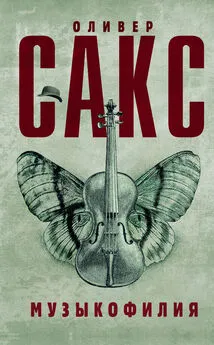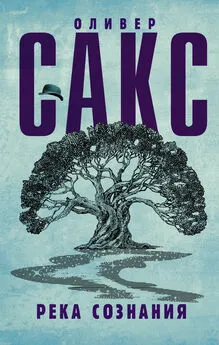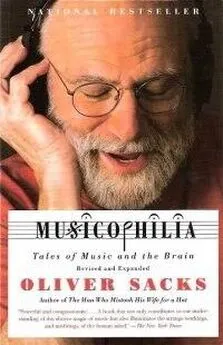Оливер Сакс - В движении. История жизни
- Название:В движении. История жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Издательство АСТ»
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-091337-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Оливер Сакс - В движении. История жизни краткое содержание
Оливер Сакс рассказал читателям множество удивительных историй своих пациентов, а под конец жизни решился поведать историю собственной жизни, которая поражает воображение ничуть не меньше, чем история человека, который принял жену за шляпу.
История жизни Оливера Сакса – это история трудного взросления неординарного мальчика в удушливой провинциальной британской атмосфере середины прошлого века.
История молодого невролога, не делавшего разницы между понятиями «жизнь» и «наука».
История человека, который смело шел на конфронтацию с научным сообществом, выдвигал смелые теории и ставил на себе рискованные, если не сказать эксцентричные, эксперименты.
История одного из самых известных неврологов и нейропсихологов нашего времени – бесстрашного подвижника науки, незаурядной личности и убежденного гуманиста.
В движении. История жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Последующие двадцать лет мы с Ральфом оставались близкими друзьями. Лето он проводил в Институте Солка, и я часто его там навещал. Как ученый Ральф был бескомпромиссен, прям и даже резковат; в личной жизни он был жизнерадостен, импульсивен и склонен к играм и розыгрышам. Ему нравилась его роль мужа и отца близнецов; в его семейную жизнь я был включен на правах крестного отца. Нам обоим нравилась Ла-Джолла, пригород Сан-Диего, где мы могли долго гулять или кататься на велосипедах, наблюдать за параглайдерами, парящими над утесами, или купаться в бухте. К 1995 году Ла-Джолла стала неврологической столицей мира: к Институту Солка, Исследовательскому институту Скриппса и Калифорнийскому университету в Сан-Диего присоединился Неврологический институт Джералда Эдельмана. Ральф представил меня некоторым ученым-неврологам, работавшим в Институте Солка, и я почувствовал себя частью этого чрезвычайно разнообразного и разноликого сообщества.
В 2011 году, совсем молодым, Ральф умер от рака мозга. Ему было всего пятьдесят два. Мне его страшно не хватает, но его голос, как голоса многих моих учителей и друзей, стал неотъемлемой частью моего внутреннего мира.
В 1953 году, еще в Оксфорде, я прочитал опубликованное в журнале «Природа» знаменитое письмо Уотсона и Крика о «двойной спирали». Должен сказать, что я сразу же почувствовал, насколько значимо сделанное этими учеными открытие, но ни я, ни большинство людей в то время пока не доросли до понимания его в полном объеме.
И только в 1962 году, когда Крик приехал в Сан-Франциско и выступил в больнице Маунт-Цион, я в полной мере осознал всю важность открытия «двойной спирали». Правда, Крик говорил не о структуре ДНК, а о работе, которую он проводил вместе с молекулярным биологом Сиднеем Бреннером, пытаясь определить, как последовательность оснований ДНК обусловливает последовательность аминокислот в белках. После четырех лет напряженной работы им удалось показать, что в процессе перекодировки принимает участие код из трех нуклеотидов. Это само по себе было открытие не менее значительное, чем открытие двойной спирали.
Но уже было очевидно, что Крик перешел к изучению иных вещей. Как он поведал нам во время своего выступления, важнейшими задачами науки будущего будет понимание сущности жизни, а также понимание связи мозга и сознания, а в особенности поиски биологических оснований мысли и чувства. Не подозревал ли Крик, когда говорил с нами об этом в 1962 году, что именно этими вопросами он, «разобравшись» с молекулярной биологией, задастся в недалеком будущем – или по крайней мере выведет их на такой уровень, где их решение может быть передано другим исследователям?
В 1979 году Крик опубликовал в журнале «Сайентифик Америкэн» статью «Мысли о мозге», которая в известном смысле узаконила изучение сознания в терминах нейронауки; до этого вопросы сознания полагались безнадежно субъективными, а потому недоступными научному исследованию.
Через несколько лет, в 1986 году, я встретил Крика на конференции в Сан-Диего. Там была огромная толпа, состоявшая почти полностью из неврологов, но когда пришло время обеда, Крик выделил меня из всех, приобнял за плечи и, посадив рядом с собой, попросил:
– А теперь рассказывайте мне истории.
В особенности ему были интересны истории о том, как зрение может подвергнуться изменениям в результате поражения мозга или болезни.
Не помню, что мы ели; вообще не помню об этом обеде ничего, кроме того, что я рассказывал Крику истории многих моих пациентов, и каждая вызывала с его стороны целый поток гипотез и предположений относительно дальнейших исследований. Несколько дней спустя я писал Крику, что, по моим ощущениям во время обеда, «… я словно сидел рядом с интеллектуальным ядерным реактором… Никогда я не был свидетелем такого накала». Он был страшно заинтересован моим мистером И., а также тем, как у ряда моих пациентов в течение нескольких минут, пока существовала мигреневая аура, нормальное динамическое визуальное восприятие вытеснялось мерцанием статических, «застывших» образов. Крик спросил меня, было ли, как я его назвал, «кинематографическое зрение» постоянным состоянием или его появление можно было заранее предполагать и, соответственно, изучать (я ответил, что не знаю).
В течение всего 1986 года я много времени проводил с мистером И., и в январе 1987 года я написал Крику: «Недавно закончил длинный отчет о своем больном… Только теперь, когда пишу, я понимаю, каким образом цвет может действительно быть (церебро-ментальным) конструктом».
Большую часть своей профессиональной жизни я исповедовал понятия «наивного реализма», полагая визуальные впечатления всего лишь простой транскрипцией образов, отпечатавшихся на сетчатке, – эти «позитивистские» представления доминировали в моем сознании в оксфордские дни. Но с тех пор как я начал работать с мистером И., они уступали место совершенно иному образу мозга и сознания, в котором главным было представление об их конструктивной и креативной сущности. Кроме того, я начал задумываться, а не являются ли и все прочие перцептивные схемы, включая схемы восприятия движения, исключительно конструктами сознания [84] Через несколько дней я получил от Крика ответ, в котором он попросил меня дать больше деталей, которые отличали бы моих пациентов с мигренью от совершенно замечательной пациентки, которую описали в своей работе 1983 года Джозеф Зил и его коллеги. Пациентка Зила, например, была не в состоянии налить себе чашку чая, поскольку видела неподвижный «ледник» чая, свисающий с носика чайника. Некоторые из моих больных видели такие застывшие картинки, но в быстрой последовательности, в то время как у больной, которую наблюдал Зил и которая утратила способность видеть движение после удара, эти картинки длились гораздо дольше – до нескольких секунд. Особенно Крику хотелось узнать, наблюдаются ли последовательные застывшие картинки только в промежутках между последовательными движениями глаз или также и во время этих движений. Он писал: «Мне бы очень хотелось обсудить эти вопросы, включая ваши положения о цвете как церебро-ментальном конструкте». Отвечая Крику, я детально описал различия между моими пациентами с мигренью и «слепой к движению» пациенткой Зила.
.
В своем письме я упомянул, что работаю над случаем мистера И. вместе с офтальмологом и моим другом Бобом Вассерманом, а также Ральфом Сигелом, который разработал и провел с моим пациентом серию психофизических экспериментов. Сообщил я и то, что мистера И. осматривал Семир Зеки.
В конце октября 1987 года я смог отправить Крику статью «Случай с художником, пораженным цветовой слепотой», которую мы с Бобом Вассерманом написали для «Нью-Йоркского книжного обозрения», и в начале января 1988 года я получил от него в ответ письмо, которое меня совершенно ошеломило (пять страниц машинописного текста с одинарным интервалом), тщательно аргументированное и брызжущее идеями и предположениями, часть которых, как Крик писал, были «дикими». Он писал:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: