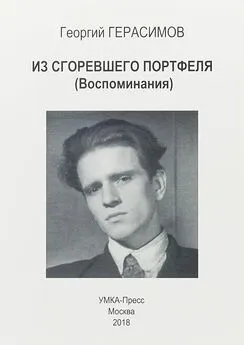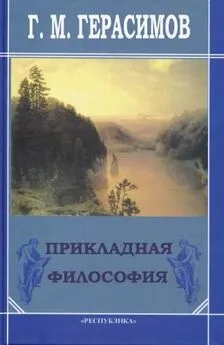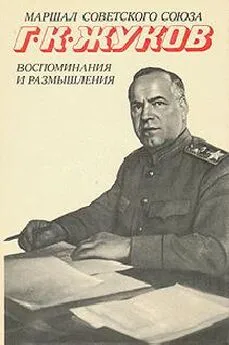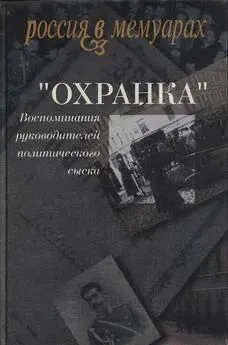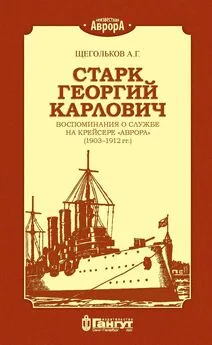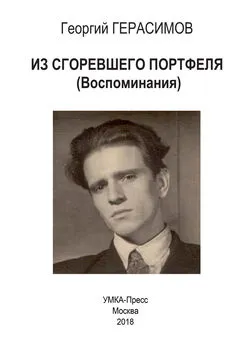Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)
- Название:Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) краткое содержание
Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конечно, самым основным, самым главным, самым любимым было «мастерство актера». Тут и манипуляции с отсутствующим предметом «на память физических действий», и задания подсмотреть и в характере показать увиденную походку, и показ «профессиональных навыков» – какого-нибудь повара, парикмахера, слесаря, пианиста... Несть им числа. А этюды на «органичное молчание»? Это когда двое-трое действуют на сцене без слов, и молчание их оправдано определенными обстоятельствами. Думай, студиец, думай! Развитие ассоциативной памяти, мгновенной реакции на неожиданные движения партнера: ап! – и летит вдруг к тебе мяч, а то и палка – успей поймать... Сценическое движение, падения, прыжки... Занимательная, бесконечно интересная игра. И как радовались наши преподаватели, когда в такой игре возникало что-то непредвиденное, высекалась искра правды в твоих действиях, элемент образа. Великая учебная сцена. Моя бы воля, я бы во всех общеобразовательных школах ввел это «мастерство актера».
Будни учения
Думаю, что для полноты картины, раз уж стараюсь я последовательно изложить факты своей биографии, стоит рассказать и о годах учения. В этой главке не будет особых излияний по поводу моей любви к театру, и так уже ясно, что я его любил. Поведаю просто о некоторых порой смешных, а порой и драматических случаях, иногда и о малозаметных происшествиях, оказавших однако влияние на мою дальнейшую судьбу. Как вы понимаете, в основу сюжетов, излагаемых мной здесь, как и во многих предыдущих и последующих главах, положены те самые «Рассказы из сгоревшего портфеля», которые ныне, зачастую конспективно, восстанавливаю я по памяти.
Немало уже говорил я о каких-то своих мыслях, рождавшихся в годы ученияв студии, о том, как воспринимал я актерский труд, театральную профессию. Тут теоретизировать не стану. Тут о буднях тех пяти лет юности, что отданы были театру, вернее – театральной учебе.
Первый курс закончил я довольно прилично. Правда, по основной «профилирующей» дисциплине, «мастерству актера», получил не пятерку – четверку с плюсом, но такая оценка давала право учиться дальше, – тех, кто схватил двойку, отчисляли, троечникам советовали «подумать», стоит ли им заниматься дальше, ну а четверка, да еще с плюсом – сомнений в твоей профпригодности не вызывала. Хотя, конечно, царапала самолюбие и самомнение. Впрочем, где-то весной сорок шестого, уже во втором семестре, мне был выдан приятный аванс – я получил в числе немногих «плюс» за показ «самостоятельного отрывка». В те годы (не знаю, сохранилась ли сейчас эта практика) щукинцы обязаны были ежегодно, уже с первого курса, готовить и показывать «самостоятельные отрывки». Что это такое? По собственному усмотрению и разумению должен ты был отыскать, выбрать в океане мировой драматургии или прозы какой-нибудь отрывок, сценку, драматический диалог на пять-десять минут. Играй кого хочешь: Гамлета, Гришку Отрепьева, Аксинью из «Тихого Дона», какого-то Тита Титовича или Любима Торцова из Островского, Скапена или Сида, Тартюфа или Электру – твоя воля. Из сокурсников подбери партнера или партнеров, сам отыскивай необходимые элементы образа, решай мизансцены, выдумывай «выгородку», костюмы, грим. Сам находи время и возможности репетировать. Никто ни в ычем тебе не препятствует. Где-то во второй половине учебного года назначался день «показа», в репетиционный зал собирались актеры театра, студийцы других курсов, педагоги студии – и лицедействуй. Покажи, чему научился, что усвоил, как оцениваешь собственные возможности. Единственная помощь, оказываемая студией – ее довольно богатая костюмерная – к твоим услугам. Тебе задолго до показа подберут нужный костюм: фрак, мундир, хитон, вечернее платье, – и выдадут на руки: носи, привыкай, обживай...
С последним обстоятельством связано у меня несколько курьезных случаев, не удержусь и хоть коротенько расскажу о некоторых. Галя Когтева – впоследствии многолетняя дикторша центрального радиовещания – я всегда узнаю ее голос – теплый, грудной, ее великолепную дикцию, – упросила меня подыграть ей в отрывке из «Женитьбы Белугина»: она – героиня, я, соответственно, жених-провинциал, явившийся делать предложение московской львице... Не очень мне хотелось Белугина играть, да уж больно хорош был исполнитель этой роли в филиале Малого театра Анненков... Получил я фрак, манишку, брюки со штрипками, лаковые штиблеты, цилиндр, крылатку... Жутко непривычная одежка – спина фрака тянет плечи назад, узкие панталоны не дают свободно ногу в колене согнуть, цилиндр норовит съехать набекрень. А ведь для моего будущего героя это – привычное одеяние, правда, не поддевка с шароварами, но и не совсем уж нечто экзотическое. Белугин, хоть и провинциал, а уже пообтершийся... Все эти мелочи надо учитывать, вплоть до белых нитяных перчаток и хризантемы в петлице... Как же – свататься едет! Короче говоря, напялил я фрак и хожу в нем по училищу, и на лекциях сижу. И никто на тебя особого внимания не обращает, все однокашники невесть во что вырядились, кто в гусарском ментике, кто в венгерке или офицерском мундире, кто в бальном платье, с веером из перьев, кто-то даже в кимоно семенит... Должен чувствовать себя в непривычном, как рыба в чешуе. Глядишь, кто-то из педагогов или старшекурсников кинет: фалды, мол, откидывать, садясь, нужно легким движением кистей рук... А колени, когда ногу на ногу закидываешь, почти не сгибать, а то начнут пузыриться панталоны... И все на ус мотаешь...
Конечно, появляться вне студии во фраке не рекомендовалось, а вот в мундире русского предреволюционного офицера – с золотыми погонами и парой крестов на груди, в фуражке с кокардой, – я рискнул. Вылез как-то в перерыве на Арбат. Тогда по Москве еще много шаталось зарубежных вояк-союзников: англичане, французы, поляки, чехи... Царская форма как две капли воды походила на болгарскую. Никто и внимания не обращал, хотя Арбат – улица «режимная». Тянешься перед военными старших чинов, отдаешь честь, прикладывая два пальца к козырьку, тебя приветствуют младшие по чину... Только не зевай, будь внимателен. И патрулю лучше на глаза не лезть. Идет поручик, в левой руке белая перчатка, правая – приветствует, шаг четкий, спина прямая – иностранец. Чудное ощущение себя как не себя... Однажды вылез я на улицу в мундире реалиста – не гимназиста, с поясом, «золотыми пуговицами», в фуражке с гербом и номером гимназии на погончиках, а именно реалиста – реального училища, уж и не помню, кого тогда изображать собирался (мы ведь не по одному отрывку играли – какой-то свой, основной, а в каких-то подыгрывали). Мундир был серого мышиного цвета, запахивался наискось через грудь, однобортный, на крючках. Выскочил я в нем на улицу, и тут же окружили любопытные. У нас в стране тогда мания шла – всех в мундиры обряжать... «Это что же за форма?» – спрашивают. – «Да вот, студентам университета, – говорю. – Не точно еще. Испытываем...»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: