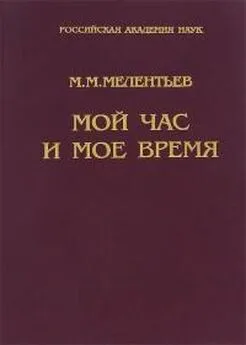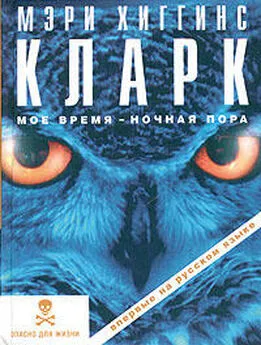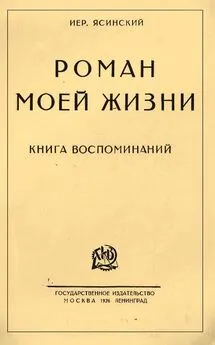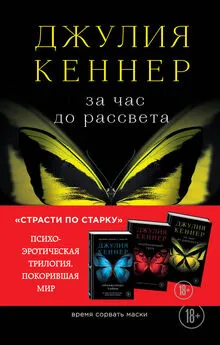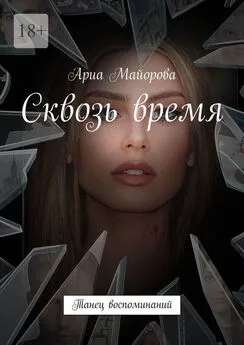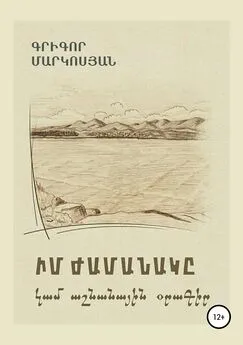Михаил Мелентьев - Мой час и мое время : Книга воспоминаний
- Название:Мой час и мое время : Книга воспоминаний
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ювента
- Год:2001
- Город:СПб.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Мелентьев - Мой час и мое время : Книга воспоминаний краткое содержание
Мой час и мое время : Книга воспоминаний - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ползут слухи о болезни Хрущева и его угнетенном состоянии (и есть отчего).
1961 год начался болезнью Натальи Павловны Вревской. В начале это не вызвало опасений, но каждая последующая неделя приносила все худшие вести.
Двенадцатого февраля я позвонил Борису (сын Н. П.) и узнал, что нарастает декомпенсация сердца, увеличиваются отеки. Время от времени теряется сознание. Положение явно определялось безнадежным. Был поднят разговор о поездке моей в Ленинград. Но Наталья Павловна и я уже хорошо умели смотреть вперед и «поездку» взаимно замолчали.
А четвертого марта телеграмма: «Мама сегодня скончалась. Саша. Борис». Это сыновья Натальи Павловны — Александр Андреевич Рихтер и Борис Михайлович Вревский.
…Седьмого января 1947 года Наталья Павловна написала мне: «А что я умру в марте какого-то года — это мне сдается давно».
Я читал где-то о возможности таких «предчувствий». Знаю, что знаменитый Филарет митрополит Московский так же предсказал основные даты своей кончины. И вот Наталья Павловна… Она много думала о своей смерти. Но так же много думал о ней и Лев Толстой…
Потянулись дни хмурых переживаний потери. Образ Натальи Павловны был неотступен. И был конец зимы — всегда такой нудный, затянувшийся…
В конце марта уехал в Тарусу. Она встретила своими далями, тишиною. Чудесным воздухом. А летом было много старинной музыки на виола-ди-гамба в исполнении И.А.Морозовой, тридцать лет тому назад игравшей у меня в Алабино на виолончели. А кроме того, Голубовская и профессор Рейсон много раз проиграли Крейцерову сонату. Играли ее без нот с подъемом и великим мастерством.
1962 год начался опять грустно. В день Рождества умерла Евгения Николаевна Аратовская. Десятого января я был на ее похоронах. Е. Н. я знал лет сорок. Она работала у меня машинисткой в «Санитафлоте». С нею связаны переживания холода и голода времен гражданской войны. Затем она выручила меня комнатою, после моего возвращения из ссылки, уступив свою большую и заняв маленькую в нашем доме на Вспольном. Она была крепко привязана ко мне. Над этим подшучивали, но это не меняло ее отношений. Месяц тому назад я зашел проведать ее, и она была «молодцом». В церкви я к гробу не подошел. Мне хотелось сохранить ее образ, каким он остался у меня после нашего последнего свидания, с ее радостью, что я зашел и с ее надеждами на ее еще долгую жизнь. Началась обедня. Шла она гладко. Выученно. Пел небольшой хор, и пел стройно. Но в этом «церковном действии» не было вдохновения. Исполнители были ремесленниками, серыми и скучными. А какого облика вышел священник на погребение! В нем не было даже и начатков благопристойности. Погребение сразу шло над семью гробами, налажено и споро. И вот я, такой податливый на впечатления от церковной службы, вышел из церкви только уставшим и безразличным.
Пасха была 29 апреля. За неделю до нее мы приехали в Тарусу с Голубовской. Стояли весенние дни. Заходил Юрий Павлович Казаков. И Пасхальную ночь мы встретили и провели втроем. Рассказы Казакова продолжали выходить и были так же хороши, как и первые. А его «Северные дневники» были выше всякой похвалы.
С 10 по 15 июля прожил у меня в Тарусе Василий Витальевич Шульгин. Личность почти легендарная. Личность почти легендарная. Я знал о нем не меньше пятидесяти лет как о редакторе и издателе правой газеты «Киевлянин». Как о члене Государственной думы трех созывов. Как об авторе трех замечательных книг: «Дни», «Двадцатый год», «Три столицы». Наконец в «Известиях» появились его «Письма к эмигрантам». А затем Сергей Коншин начал мне писать о Шульгине, что он во Владимире, ходит по улицам и что он, наконец, познакомился с ним и в восторге от него. Я написал Василию Васильевичу и пригласил его погостить с женою. И вот они приехали. Ему 84 года. Своим обликом он напоминает Бернарда Шоу. Небольшая бородка. Все понимающие глаза и довольно кокетливый вид. Держится предельно просто и доброжелательно. Не дряхл. Нет, вовсе не дряхл ни физически, ни душевно.
История его последних лет такова: в 1944 году наши войска захватили его в Югославии и по приказу Сталина направили его в Москву на Лубянку. Здесь он просидел три года, а затем его перевели в тюрьму во Владимир-на-Клязьме, где и продержали девять лет. Врачи много раз его «актировали» и по возрасту, и по здоровью. Нет, не выпускали. В 1956 году выпустили и поместили в один из домов для престарелых. Позволили затем жене В. В. приехать из-за рубежа к нему и дали отдельную однокомнатную квартиру и пенсию. Были написаны письма к эмигрантам. Из Владимира не выпускали. Однако на XXII съезд компартии Шульгин получил билет журналиста и предложение от Хрущева выступить. В. В. отказался, как отказался и от встречи с Никитою Сергеевичем (сам подтвердил мне эти слухи), считая ее не нужной ни ему, ни Никите. Беседовать с В. В., конечно, одно наслаждение. Его не покинули ни юмор, ни хорошее наблюдение настоящего. Писать о нем нужно и можно очень много, и я уверен, что когда-то книга о нем будет написана. Я же хочу только в заключение рассказать, почему В. В. «завел себе бороду».
«В тюрьме сидел сектант старик, и его борода была его ритуальной принадлежностью. А его каждую субботу насильно валили на пол и эту бороду стригли. Я долго терпел это поругание, а затем при случае спросил начальника тюрьмы, чем и кому мешает борода этого несчастного старика? "Но помилуйте, это же некультурно и неопрятно". — "Товарищ начальник, Вы забыли о Марксе. Ведь он же носил бороду. И я вот решил в память марксовой бороды и себе завести". Ни меня, ни старика больше не трогали».
Очень мало, очень мало пожил у меня В. В. Но его жена Мария Дмитриевна плохо себя чувствовала и стремилась домой.
Перед отъездом В. В. я прочитал ему свою главу «Кронштадт». Он слушал, не прерывая, и по окончании сказал мне взволнованно: «Великолепно, великолепно».
А в середине июля в Тарусе произошел такой «литературный эпизод». Стало слышно, что в Тарусу приехал студент из Киева и ставит памятник Марине Цветаевой. Слух был до того необычен и немыслим в наших общественных отношениях, что его приняли с усмешкою. Но шли дни, и стали рассказывать подробности, а потом ко мне пришел и сам «постановщик», действительно — студент из Киева Сеня Островский, поэт и поклонник Марины, решил поставить памятник Марине, согласно ее желанию, выраженному в статье «Кирилловны», помещенной в недавно вышедшем сборнике «Тарусские страницы». Сборник имел большой успех и покупался нарасхват. Однако правящие круги сборника не одобрили, запретили его дальнейшее печатание и кое-кого наказали из Калужского издательства.
Сеня добрался до Тарусы, «голосуя». Денег для постановки памятника, конечно, никаких не имел, но «Завещание» Марины имело для него обязательно нравственную силу:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: