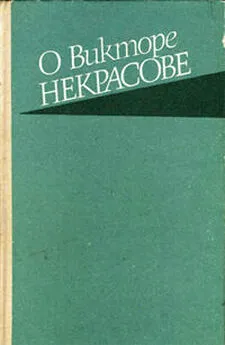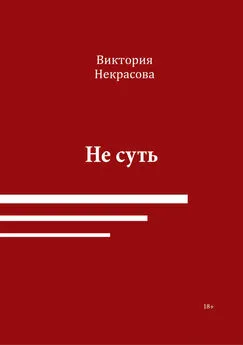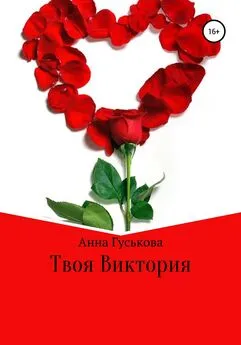Анна Берзер - О Викторе Некрасове
- Название:О Викторе Некрасове
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Украïнський письменник
- Год:1992
- Город:Киев
- ISBN:5-333-00666-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Берзер - О Викторе Некрасове краткое содержание
В 1974 г. В. Некрасов вынужден был покинуть Родину. Умер в Париже.
В книге представлены воспоминания о писателе его друзей, а также портретные зарисовки, принадлежащие перу самого В. Некрасова.
Рассчитана на широкий круг читателей.»
[издательство «Украïнський письменник», 1992 г.]
О Викторе Некрасове - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В свою очередь, среди части украинских писателей — тех, чей искренний, но ограниченный патриотизм был искажен казенной идеологической ориентацией и верноподданичеством, — было распространено представление о Викторе Некрасове как чуть ли не об «украинофобе» (и мне, например, приходилось выслушивать упреки за то, что «стакнулся» с ним). Представление, разумеется, совершенно превратное, но оно странным образом питалось не только независимым и горделивым поведением Виктора Платоновича по отношению к СПУ (сходным, кстати, и с отношением некоторых молодых украинских литераторов, например, Лины Костенко или, несколько позже, Василя Стуса), но и некоторыми его высказываниями и публикациями. Особенный шум и даже негодование вызвали его суждения об А. Довженко.
Виктор Некрасов стоял на позициях трезвого и честного реализма не только по свойствам своей изначально правдивой и прямодушной натуры, но и по своим эстетическим склонностям. Естественно, они выражались и в его суждениях о делах литературных. Не приемля никакой напыщенности, риторики, приукрашивания и «приподымания» действительности, он одну из бед советской литературы времен государственно предписанной и государственно соблюдаемой неправды видел в насаждении патетического тона, «красивой» романтизации, а это последнее связывал, в частности, и с абсолютизацией эстетических принципов А. Довженко, в том числе и его известной формулы о золоте высокой правды и «медных пятаках» маленьких бытовых правд. Выступление В. Некрасова оскорбило украинских «патриотов», и их реакция казалась тем более обоснованной, что лишь недавно имя Довженко было выведено из полузабвения (после многих лет пребывания в немилости), лишь недавно смогли появиться в печати его новые произведения, напоминавшие об огромных возможностях его таланта (и, естественно, с ним связывались надежды на открытие новых художественных горизонтов, а то и на спасение от мелкотравчатости и бездумности), наконец, еще свежо было ощущение недавней невозвратимой потери.
Разумеется, Виктор Некрасов совершенно прав был, выступая против «лакировки» и лживой патетики, всем уже опостылевшей. И вовсе не отрицал он Довженко вообще. Но чего-то, на мой взгляд, не учел он и в оценке самого Довженко — хотя бы трагизма судьбы великого художника, оторванного от родины — Украины — и фактически лишенного возможности трудиться, с негласным запрещением «писать и рисовать». Не знал он и истинного облика Довженко — не мог знать, как знаем мы, имеющие возможность прочесть его мужественно-проницательные и мудрые мысли в «Дневниках», мысли человека, понимавшего еще и полстолетия назад то, к пониманию чего мы пришли лишь теперь. Но главное — Виктор Некрасов стал жертвой обмана. Он спорил, по сути, не с Довженко, а с той совершенно фальшивой интерпретацией его взглядов, которую давали лакировщики и официальные гимнотворцы, жульнически прикрывавшиеся именем Довженко. Ведь, говоря о высоком, Довженко всегда разумел моральную и интеллектуальную высоту художника, масштабность его мысли, только и позволяющие постичь глубину драматизма жизни, а отнюдь не словесное её превознесение. Его преданность высотам духа была гневной укоризной духовному ничтожеству и бесплодию времени и искусства этого времени.
Этого, на мой взгляд, не учел Виктор Платонович, и об этом нам случалось говорить, поскольку отголоски былых страстей вокруг этой темы еще долго не угасали. Но в спорах с его оппонентами я склонялся скорее на его сторону — в том смысле, как я это попытался объяснить выше.
Отношение Виктора Некрасова к украинской литературе и украинским делам вообще особенно изменилось под влиянием движения «шестидесятников». Его интерес привлекли и Василь Симоненко, и Виталий Коротич, и Иван Драч, и Микола Винграновский, и, разумеется, Лина Костенко. Конечно же, он знал цену таким мастерам старших поколений, как Максим Рыльский, Павло Тычина, Микола Бажан, Андрий Головко (по крайней мере, догадывался, учитывал сложившуюся их репутацию — хотя, наверное, мало что из них читал, если вообще читал). Но эти люди были для него в прошлом, какого-то противостояния «свинцовым мерзостям» нынешней жизни он за ними не улавливал. А ему важно было именно это, увлечь его можно было словом или поступком, срывавшим завесу лжи. Вот почему он начал проникаться интересом и симпатией к «украинству» именно в связи с литературными и политическими выступлениями «шестидесятников». Когда начал развиваться украинский «самиздат», ни один из его документов не прошел мимо Виктора Некрасова.
Теперь он уже был далек от того наивного недоумения, с которым возражал мне прежде: «Но ведь украинский язык никто не притесняет — вон Шевченко в каждом киоске продается: куда ни глянь, везде Шевченко» (кстати, я так и не понял, откуда взялось у него такое представление: как раз в те годы достать «Кобзарь» Шевченко было проблемой — не потому, что его не издавали, издавали, но тиражами, не удовлетворявшими спрос). Теперь он возмущался разгонами молодежных собраний и митингов, в частности возле памятника Тарасу Шевченко, преследованиями представителей молодой украинской творческой интеллигенции (например, уничтожением в Киевском университете витража, созданного Панасом Заливахой, Аллой Горской и другими художниками, исключением из университета молодого поэта Миколы Холодного и т. д.). Апогеем этих преследований стали в тот период аресты (осенью 1965 года) большой группы людей, среди которых были литературный критик Иван Светличный (хорошо известный Некрасову), Вячеслав Черновил, а во Львове — Михайло Горынь, Богдан Горынь, Михайло Косив и другие. Виктор Платонович был взволнован этими репрессиями и не раз говорил мне, что надо что-то делать, как-то протестовать. Я отвечал ему, что пишу обстоятельное письмо протеста, в котором попытаюсь вообще проанализировать сложившуюся ситуацию. Это его заинтересовало, и он часто спрашивал, когда будет готово письмо (тогда этот своеобразный жанр политической публицистики как раз обретал популярность).
А мое «письмо» всё разрасталось и разрасталось. Собственно, само письмо — в адрес первого секретаря ЦК КПУ П. Е. Шелеста и председателя Совета Министров УССР В. В. Щербицкого — было не очень пространным, но к нему я решил приложить материал под названием «Интернационализм или русификация?», где пытался показать пагубность той национальной политики, которая осуществлялась на Украине под прикрытием фальшивых слов об интернационализме. Сочинение этой вещи заняло более трех месяцев напряженного труда (при том, что кое-какие заготовки у меня уже были: я и ранее задумывал что-то подобное). Готова она была лишь к концу года. Упоминаю об этом не только потому, что Виктор Платонович был одним из первых читателей моего опуса, но и потому, что он, сам того не ведая, косвенным образом побуждал меня к его написанию; во-первых, поторапливая с предполагавшимся «письмом протеста»; во-вторых, пытаясь уяснить для себя суть того, что официальная пропаганда называла тогда «украинским буржуазным национализмом». За Виктором Платоновичем мне виделась та часть русской интеллигенции, которая хочет и способна занять честную позицию в украинском национальном вопросе, но недостаточно осведомлена о нем. Этих людей как возможных собеседников я тоже имел в виду, хотя формально материал свой адресовал ЦК КПУ и ЦК КПСС — в наивной надежде убедить их, что политика русификации, подавления национально-культурных интересов народов и репрессий против инакомыслящих может лишь погубить дело социализма и противоречит коммунистическим идеалам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: