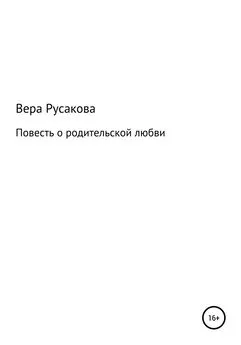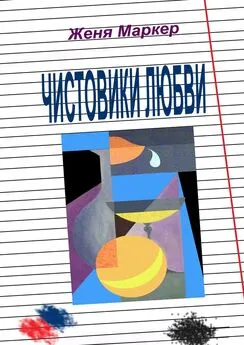Вениамин Додин - Повесть о разделённой любви
- Название:Повесть о разделённой любви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1978
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Повесть о разделённой любви краткое содержание
Повесть о разделённой любви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
67. «Что есть истина?»
Понимаешь, Бен, когда я вспоминаю о товарищах моих — евреях, вместе со мною отбивавшихся от русских весной 1945 года в Берлине, я догадываюсь, почему они тогда оказались вместе с нами точно зная, что нацисты творят с евреями. Пусть диким это не покажется, но причиной тому была возносящаяся их над страшной действительностью… спасительная ностальгия-мечта по «старой, доброй Германии». Где им так спокойно, так сытно, весело и вольно жилось. И защищая своё Германское отечество от русских, они ни на час не сомневались: ненавистный нацизм падет! И на его руинах снова поднимется из руин и пепла та самая «старая и добрая» страна. Всё в ней станет как было. Даже начнется всё сначала. Или — еще лучше — продолжится прерванная с приходом Гитлера замечательная жизнь...
И что самое удивительное, Бен, все они в мечтах своих будто бы забыли как жили и что делали в той «старой и доброй» Германии. А жили они так, и проделывали такое, что даже очень разборчивый на выражение вслух своих мыслей еврейский публицист-умница Хуго Бергман — а почитали его не одни евреи, но вся немецкая Германия — предупреждал о надвигающейся на евреев беде. Он писал профессору Карлу Штрумпфу: «Не будучи составной частью германской культуры, мы — евреи — просто-напросто присвоили себе результаты немецкого культурного прогресса. Потому наиболее активными антисемитами у нас в Германии становятся не только и не столько оголтелые фанатики-расисты, но и серьезные, добропорядочные немцы, прежде хорошо относившиеся к евреям. Они — люди консервативные — чтят свое прошлое. И противятся тому, чтобы евреи присваивали себе плоды этого прогресса. Все это “лишает сна” не одних немцев-юдофобов, но даже многих образованных евреев — участников “культурного штурма”». Позднее сионист Морис Гольдштейн еще раз напоминает своим соплеменникам, что стремительно нарастающие темпы захвата ими контроля над культурной жизнью Берлина и самой Германии — над прессой, театром, музыкальным миром немцев — означают, по существу, самозваную узурпацию контроля над духовной жизнью нации, которая никогда на это не давала евреям мандата! «Естественно, — пишет Гольдштейн, — такая ситуация для нас смертельно опасна. Ведь литература и искусство Великого Народа — неотъемлемая часть и сокровеннейшее выражение чувства родины, нации. Трепетно чтимых немцами исторических традиций — святыни их! И однажды (сообразив что их обирают!) они приступят… к их защите…Что значит это для евреев ты можешь представить?.. Нет?». Лессинг и Шолем смогли. А потому, пытаясь предотвратить непоправимое, Теодор Лессинг и Гершом Шолем во всеуслышанье осудили само «право» своих единоверцев «культурными штурмами» вламываться в немецкую душу. «Поймите, — предупредили они, — еврейская “любовь” к немцам безответна! Они никогда не принимали нас и не считали своими. Не было никакой встречи между нашей и германской культурами. Шел постоянный процесс нашего самоотречения, унизительной капитуляции, отказа от своей собственной еврейской культуры...»
Или ты всего этого не знал? Не слышал-не читал?
…Мировая война усугубила положение: под патриотические марши штурмисты и вовсе распоясались, перекинувшись с «культуры» на политику. И тут как черт из преисподней выскочил Троцкий! В марте 1917 года, перед отъездом из Нью-Йорка в Россию, вздыбленную Февралем, он оповещает мировую общественность: «...развитие революционной борьбы и создание революционного рабочего правительства России нанесет смертельный удар Гогенцоллерну, ибо даст могущественный толчок революционному движению германского пролетариата... Война, — вещает этот генератор смут и разбоев, — превратила Европу в пороховой погреб социальной революции. Русский пролетариат бросает теперь в этот пороховой склад зажженный факел! И если случится невероятное, — продолжает он, — если консервативная социал-патриотическая организация помешает немецкому пролетариату подняться против своих правящих классов, тогда, разумеется, русский рабочий класс... защитит революцию в Германии с оружием в руках. Революционное рабочее правительство в России будет вести борьбу против Гогенцоллернов, побуждая братский немецкий пролетариат подниматься против общего врага... И дело пойдет не о защите какого-то отечества, а о спасении революции (еврейской, по-видимому) в Германии и перенесении ее в следующую страну»…
…Об этом ты тоже «не осведомлен»?
…Ладно!.. Знаешь, Бен, ребенком ещё я сообразил, что у меня за дед! Даже отец — тебе не представить, как был он нетерпим к деду, зол даже на него за бабушкину судьбу — так вот, он по-своему, — по-мужски, — уважал его. Любил. И конечно же был горд его ролью в судьбе Финляндии… Гитлер во время одной из наших встреч сказал о дедушке… Я тебе рассказывал: после нашего знакомства в июне 1942 года мы не раз – практически до… его конца… — встречались… То ли сам я чем-то понравился ему (скромностью никогда не страдал). То ли – и это, скорей всего – после дедова юбилея перенёс он на меня, — его частицу, — возникшую в нём симпатию – теперь уже не на расстоянии — к моему старику? Но он иногда приглашал меня когда бывал на отдыхе… Тогда меня привозили к этому страшному для врагов Германии, а для меня очень предупредительному во всём и даже по родственному ласковому человеку… Совру если скажу, что это не было мне приятно... Приятно. И как ещё! Он был в эти наши часы, и дни даже, мягким, теплым и внимательным собеседником. Более того, я заметил что он... бывает нежен что ли, – не со мной одним, нет, — с теми кого уважал, кого любил. Особенно с теми, кого знал ещё в молодости. С непутевыми даже — по его словам. Он умел уважать и дружить!.. Любить – наверно — тоже.
…Так вот, он сказал как-то – слова его, их строй, я запомнил накрепко, хотя он прерывался — был чем-то взволнован и, показалось, торопился выговориться: «Твой дедушка необыкновенный, замечательный человек! Он сумел остаться мальчишкой даже после соприкосновения в Петрограде в 1917 году с большевистской мразью! А ведь такие «встречи» для человека европейского воспитания и христианской культуры ассоциируются с насильственным погружением в отвратительно воняющее кровавое гноище и даром не даются. Слабых ломают. Но сильных заряжают ещё более мощной энергией. Иногда наделяют истинными целями (совершают переоценку ценностей!). Возможно, даже подсказывают оптимальные пути их достижения. Иногда невероятные и фантастические… И тем не менее. Тем не менее…».
68. «Соприкосновения»
(Из «Поденных записок» балерины Гельцер).
«…В конце 1916 года с выдохшегося фронта, взяв краткосрочный отпуск, приехал (в Москву) Г. Остановился у меня по Рождественскому бульвару. Отдохнул. И мы вместе с бабушкой Анной Розой отправились на Николаевский вокзал. В Петрограде, прежде чем ехать в Финляндию, он решил повидать Императорскую семью. Офицер свиты, — на эту, тогда ещё высочайшую привилегию, — право он имел. Не упустил возможности им воспользоваться теперь. (…) Даже после войны навещал он в Дании Императрицу-мать. А у Великого князя Николая Николаевича, своего высшего командира, гостил в Париже подолгу. В день, когда Г. прибыл в Царское село, Император согласился принять только двух посетителей. Г. аудиенция дана была незамедлительно. Царская семья, – рассказал Г., – против всех его ожиданий жила довольно изолированной и, безусловно, очень скромной жизнью. Как только представлялась возможность оставить хотя бы на несколько дней Петроград она уезжала в Царское. Как я из московского бедлама на свою тихую дачу. Императрица выглядела усталой. Измождённой даже. Голова её поседела. (…) Царь был грустен, подавлен… Однажды Г. пожал лавры в Царском селе, когда живописно повествовал о своей азиатской экспедиции. Тогда выглядевший счастливым царь забыл о времени. И аудиенция продолжалась в три раза дольше положенного. Теперь Г. не решился повторить успех, не развеяв предварительно явно подавленного состояния хозяев. Но чем теперь можно было его развеять? В Питере мы обратили внимание на то, что народ, уставший от войны, несчастную Царскую чету критикует в открытую. И очень-очень нелицеприятно. Всё развалилось (…) Даже разменной монеты невозможно найти! На Николаевском вокзале нам рассказали, что от жестоких морозов замерзли котлы тысяч паровозов. И на станциях и на путях скопились десятки тысяч вагонов. Да что вагоны! В столичных булочных, и даже на вокзальных лотках, всегда ломившихся от обилия снеди, не было хлеба (Скажем так: непонятно для чего Солженицын, — который через год только под стол полез, — сегодня всех уверяет, что хлеба в Петрограде в марте 1917 было сколько угодно! В то время как коренные Петербуржцы – родичи мои, и мои родители, и Кутепов Александр Павлович и прабабка моя, — бывшие вместе с Катериной и Густавом в городе как раз в описываемом Записками времени — в канун и во всё время Февральской революции – не путать с октябрьским переворотом, — свидетельствуют об обратном. В.Д)…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: