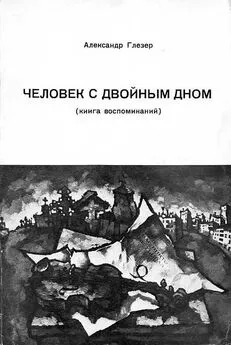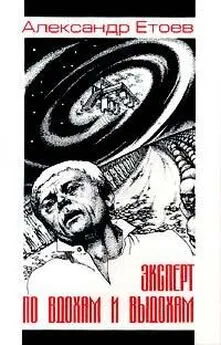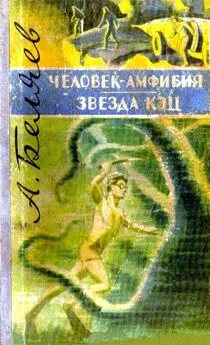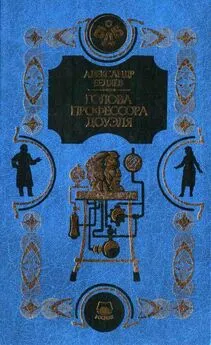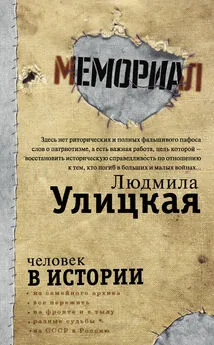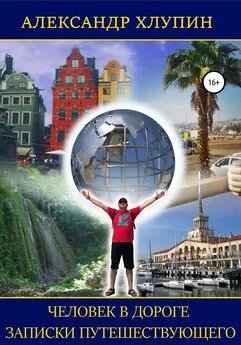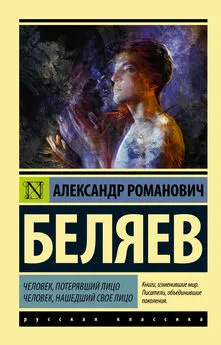Александр Глезер - Человек с двойным дном
- Название:Человек с двойным дном
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Третья волна
- Год:1979
- Город:Франция
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Глезер - Человек с двойным дном краткое содержание
В первом выпуске своими воспоминаниями делится сам автор проекта — поэт, художественный критик, издатель Александр Глезер.
Человек с двойным дном - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Не надо!
Принять от идеологического врага услугу — никогда! Достает большую, специально для безрукого изготовленную зажигалку. Она выскальзывает из негнущихся пальцев и падает на стол. Он с ней долго возится. В конце концов закуривает. Несколько раз быстро пересекает туда-обратно кабинет. Неожиданно останавливается и выкрикивает:
— Мы вас не боимся, мы вас арестуем!
Ненормальные все у них в горкоме что ли? Соловьева визжала. Этот вопит.
— А чего вам меня бояться? У вас армия, полиция, почта и телеграф. У меня лишь картины и ручка с бумагой.
Он вновь лихорадочно забегал взад-вперед. Еще чуть — чуть — и забьется в припадке падучей. Замирает, и:
— Я не только вас лично имел в виду, но и художников. Всех арестуем!
Псих, честное слово! Да у него это какая-то навязчивая идея! Не из команды ли он Шелепина-Семичастного?
Шефы проиграли в борьбе за власть на самых верхах, а бедняга по-прежнему руководит столичной пропагандой и живет их заветными мыслями. Помните крылатое Шелепинско-Семичастновское изречение? «Дайте мне арестовать тысячу московских интеллигентов, и я покончу с инакомыслием».
Нонконформисты
«— Что такое соцреализм? Это искусство «чего изволите».
Оскар Рабин.Связавши свою судьбу с русским неофициальным искусством, не должен ли я объяснить, что это такое, откуда оно взялось, почему с ним столь отчаянно борется советская власть, используя партийных чиновников, гебистов и прессу?
Английский искусствовед Камилла-Грей в книге «Великий русский эксперимент» говорит о художниках России, оказавших влияние на развитие всего современного мирового изобразительного искусства, — о Кандинском, Малевиче, Лисицком, Татлине, Поповой… Парадоксально, что в Советском Союзе они известны лишь элите интеллигенции, их картины пылятся в запасниках, и если и поминаются в какой-нибудь книге, то обязательно в отрицательном контексте. А ведь именно эти художники с первых дней революции встали на ее сторону. Революция показалась им, пролагателям новых путей, чем-то родственным, открывающим неограниченные возможности для экспериментов. В 1918 году Кандинский и Малевич становятся главными художниками Петрограда. Именно «Левые» оформляют революционные праздники. В их руках оказывается институт художественной культуры, отдел изобразительного искусства народного комиссариата просвещения и его газета «Искусство коммуны».
Но где же были реалисты? Куда они спрятались? Отчего не сражались с засилием модернизма? Реалисты, не верившие в окончательную победу большевиков, выжидали. И лишь убедившись, что советская система — это надолго, принялись наверстывать упущенное. Созданный ими в 1922 году АХРР (ассоциация художников революционной России) объявляет авангардистам смертельную войну. Один из ахрровских идеологов художник Кацман заявляет: «Учителя «левых» — Пикассо, Сезанн, Матисс, Маринетти и другие — это идеологи маленьких групп буржуазной интеллигенции периода капиталистического накала, нервозности, противоречий».
С ним перекликается теоретик АХРРА Перельман: «Для будущего историка искусства полотна Пикассо, наших Кандинского, Малевича и иже с ними будут очевидными бесспорным доказательством того сумасшедшего ужаса перед тупиком, который охватил мировую буржуазию».
Эти прямые политические обвинения очень понятны большевикам. Для их лидеров ахрровцы, услужливо предлагающие свою закостеневшую, всем понятную живопись делу пропаганды коммунистических идей, были бесконечно ближе, чем какие-то заумные экспериментаторы. Поэтому, хотя на протяжении 20-х годов авангардисты упорно сопротивляются, они обречены. Атаки на них ожесточаются. За формализм осуждаются не только кубофутуристы, супрематисты и конструктивисты, но все испытавшие влияние французского искусства, в первую очередь Сезанна, а также немецкого экспрессионизма.
В 1932 году постановлением ЦК ликвидируются все художественные объединения, а с ними и жалкие остатки творческой свободы. Живописцы загоняются во вновь образованный Союз художников. Теперь они обязаны «творить» только по методу социалистического реализма, «правдиво изображать действительность в ее революционном развитии». Смотреть на эту действительность полагается глазами партии большевиков. Отныне выставки заполняются портретами вождей, историко-революционными сценами, героическими рабочими, сооружающими Днепрогэс, а в перерыве читающими газету «Правда», обряженными в праздничные наряды колхозниками, сидящими за столами, ломящимися от яств, комсомольцами и пионерами, клянущимися в верности партии.
И что примечательно. Уже подавили формалистов, уже одни (Кандинский, Шагал, Гончарова, Ларионов, Сутин…) эмигрировали. Уже оставшиеся затаились. Уже их и не выставляют, и не допускают преподавать. А борьба с модернизмом не утихает. Перерыв, вызванный войной, с лихвой компенсируется после нее. Охота за ведьмами возобновляется — никто из художников не застрахован от того, что на него навесят ярлык формалиста. Мало того, в 1947 году в Москве закрывается Музей нового западного искусства (зачем нам импрессионисты, Сезанн, Пикассо?), а в 1949-м — Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина, где демонстрировалось классическое западное искусство. Апологеты мертворожденного соцреализма могли ликовать. На обширных просторах СССР, на одной шестой части земного шара, он властвует безраздельно, и, похоже, что навсегда.
Но вдруг все меняется. Сталин умирает, железный занавес приподнимается, и на вытоптанной ниве отечественной культуры появляются ростки явления, которое впоследствии назовут неофициальным искусством, или нонконформизмом . Толчок ему дали многочисленные выставки современной зарубежной живописи, продолжавшиеся в течение всего хрущевского правления и окончившиеся вместе с ним. Они, и прежде всего гигантская экспозиция в 4500 работ на Международном фестивале молодежи и студентов 1957 года, были для молодых советских художников, внутренне созревших для самостоятельного, не подневольного творчества, катализатором, ускорившим процесс их становления.
Этому способствовала и русская интеллигенция, изголодавшаяся по подлинным культурным ценностям и морально поддержавшая нонконформистов своим вниманием и неподдельным интересом. Вошли в моду «домашние» выставки. Их устраивали прославленный пианист Святослав Рихтер, композитор Андрей Волконский, некоторые писатели и искусствоведы. С начала 60-х годов ученые стали организовывать выставки в научно-исследовательских институтах. Ревнители чистоты соцреализма, академики-догматики и партийные чиновники от культуры с беспокойством следили, как возрождается казалось бы навек похороненное истинное искусство, как умножаются ряды художников, вставших на путь независимого творчества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: