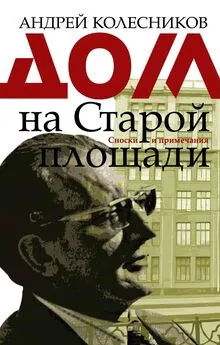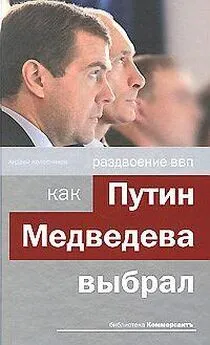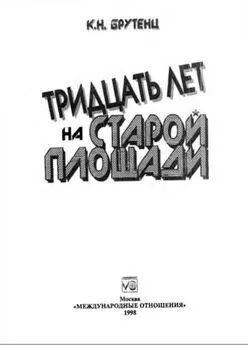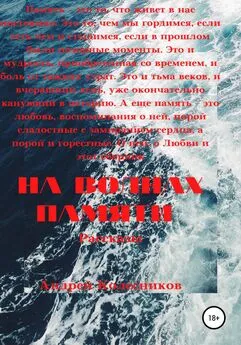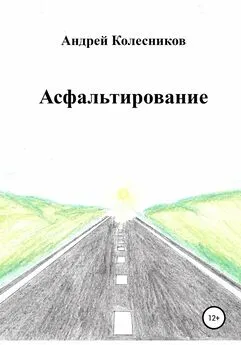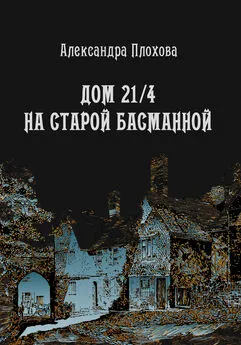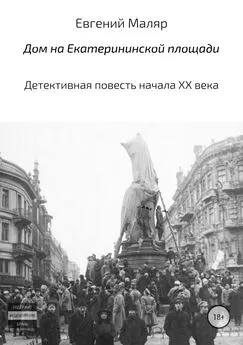Андрей Колесников - Дом на Старой площади
- Название:Дом на Старой площади
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-110349-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Колесников - Дом на Старой площади краткое содержание
Эта книга — и попытка понять советскую Атлантиду, затонувшую, но все еще посылающую сигналы из-под толщи тяжелой воды истории, и запоздалый разговор сына с отцом о том, что было главным в жизни нескольких поколений.
Дом на Старой площади - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
…Всё это было бесконечно далеко от меня. Мы жили в угловом доме на пересечении Ленинского проспекта и улицы Кравченко — там, где, по сути, заканчивалась «старая» кирпичная застройка. И это был конец 1960-х, чего только не происходило в мире и в стране. Родители, судя по всему, жили обычной конформистской частной жизнью. Дух времени, скорее, сосредоточивался в нашей с братом комнате. И вот почему… Странным образом ощущение раннего детства из конца 1960-х мне вернула новость о Нобелевской премии Боба Дилана. Когда он ее получил, я полез в YouTube восстановить в памяти его песни и еще раз попытаться понять причины невероятной страсти к нему знакомых интеллигентных американцев моего возраста. Серфингуя по песням 1960-х, я наткнулся на некогда знаменитую Where have all the flowers gone? Ее сочинил и пел Пит Сигер, левый американский антивоенный певец и активист. И тут же вспомнил пластинку, которую постоянно крутил на проигрывателе мой брат — он тогда заканчивал школу, а я еще ходил в детский сад. Кроме Where have all the flowers gone там были и Guantanamera , и We shall overcome — набор искреннего пацифистского левачества, в меру одобряемого забронзовевшим советским социализмом. Его лозунгом было внутренне противоречивое высказывание «Мир победит войну» — что, вероятно, должно было случиться после многочисленных военных операций и жертв.
Возможно, СССР и хотел мира, но только после победы над США.
Не имея военной мощи Советского Союза и обладая меньшим числом зависимых и сочувствующих народов и стран, Россия имитирует советскую модель поведения. «Эффект колеи», то есть воспроизводства в политике былых исторических моделей, действует безотказно, на уровне рефлекса.
Но как советским идеологам войны и мира, так и нынешним российским, чтобы выглядеть подлинными сторонниками мира, не хватало как раз этого простого и неоспоримого пафоса западной песенной традиции 1960-х. Именно западной, ведь ту же самую Where have all the flowers gone? пел не только Сигер и другие американские певцы вроде подруги Боба Дилана Джоаны Баэз или трио Piter, Paul and Mary но и, например, Марлен Дитрих. В этой песне есть несколько вопросов с простыми ответами, например: « Where have all the soldiers gone? Gone to the graveyard everyone. — Куда девались все эти солдаты? Они все как один — на кладбище».
Но главный вопрос: « Oh, when they will ever learn? — Когда они, наконец, извлекут из этого уроки?» — так и остается без ответа.
…И эта пластинка всё крутится на проигрывателе брата. Я вижу его профиль на фоне настольной лампы. Возможно, он рисует — как всегда, каких-нибудь революционеров-марксистов. По майскому Парижу в это время праздно шатаются бертолуччиевские «мечтатели» — пафос их антибуржуазного протеста обесценивается тем, что без обналичивания папиного буржуазного чека они не могут существовать. Каждому свое в этом знаковом 1968-м: им в Париже — романтизированный «коктейль Молотова», нам — долгосрочные последствия пакта Молотова-Риббентропа.
В окне нашей с братом комнаты — сумерки цвета blue navy. Сумерки полувековой давности.
Партком аппарата много делал для воспитания вновь пришедших работников. Был даже создан специальный семинар молодых коммунистов. Поучиться было у кого, в аппарате трудились и кандидаты, и доктора наук, и даже академики, они, как правило, охотно включались в работу сети политпросвещения. Мне сразу довелось стать руководителем сначала кружка текущей политики для технических работников, а затем и семинара для референтов.
Среди них было много людей с производства. Порядок зачисления их в штат был таков: партийный стаж и две рекомендации старых коммунистов с места работы. Случайных людей практически не было. Это создавало особую атмосферу — полное доверие, товарищеская взаимопомощь и взаимная требовательность.
В целом отлаженный четкий механизм строился на почти воинской дисциплине, которую я познал еще в комсомольских органах и райкоме партии. Таких слов, как «не могу, не умею, не потяну, у меня личные причины» — не существовало, мог быть только встречный вопрос исполнителя: «Когда?» и подтверждение: «Постараюсь». И действительно старались изо всех сил, не считаясь со временем и состоянием здоровья. Девиз один: сказано — сделано. И точка.
Конечно, мы, рядовые коммунисты, давно чувствовали на себе зловещие признаки вождизма, бонапартизма в партии, но дальше частных разговоров шепотом дело не шло. Понимали, но молчали. Честные партработники, трудившиеся всю жизнь на износ, не смогли спасти партию от предательства руководящего меньшинства, которое, начиная со Сталина, создало свою партию — аппаратную.
Как-то на Куршской косе, той ее стороне, которая обращена не к заливу, а к Балтийскому морю, папа ответил на настойчивый и часто повторявшийся вопрос одного из двух своих близких друзей, чья фамилия заканчивалась на «-сон»: «Володя, ну почему всё так происходит в стране?» — «Партийная мафия», — шепотом, да еще под шум волн, ответил отец. Этот ответ — очень общего плана, да и вряд ли папа мог подробно объяснить с позиций «теории», что происходит с перерождающимся политическим классом, притом что, в противоречии с собственными выводами, он по-человечески хорошо относился к высшим руководителям ЦК. Отец, романтический выходец из районного партийного звена, считал, что партию испортили карьеристы без взглядов, а для ортодоксального идеологизированного коммуниста карьера на цинизме, а не на основе идеологии, была совершенно неприемлема.
Кстати, этот ответ отца, несмотря на чрезвычайно высокий уровень абстракции, совершенно потряс друга нашей семьи. Он мне потом и рассказал эту историю. Вероятно, услышать такие слова от работника ЦК, да еще во второй половине глухих 1970-х — событие неординарное.
В своих многочисленных командировках по стране я видел образцы самоотверженного труда местных партийных работников в их «районных буднях». Особенно я преклонялся перед героизмом секретарей сельских райкомов, благодаря которым и выживала страна. Главной бумагой на столе сельского секретаря всегда была сводка надоев молока и уборки хлебов. Иные картины наблюдались в кулуарах высших инстанций — чем выше, тем хуже. Уже областное звено имело своих «наполеончиков», республиканское — тем более, а дальше — уже небожители, давно забывшие о людях труда.
Рассказы старых работников аппарата, особенно нашего, бывшего Особого отдела, обслуживавшего непосредственно «вождя народов», потрясали. Порядки, насаждавшиеся вождем и его ближайшим окружением во главе с Поскребышевым, расползлись по партийному аппарату как метастазы гнусной болезни. Подобострастие, лизоблюдство, полная беспринципность, угадывание мыслей и желаний «хозяина», искажение реальных данных в угоду настроению начальства, подсиживание, клевета на честных сотрудников — все эти сталинские традиции были на вооружении у целых поколений ответственных работников.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: