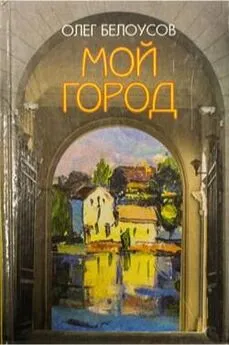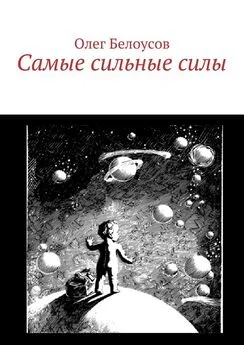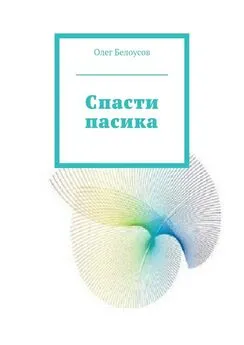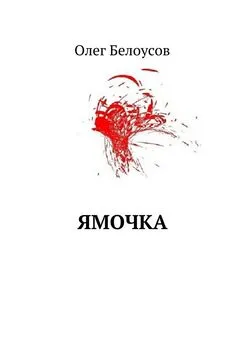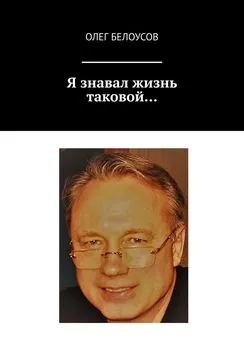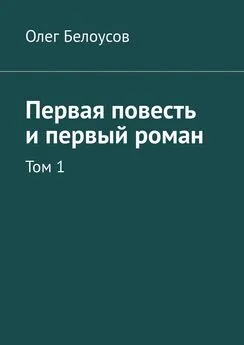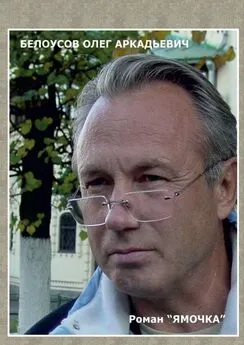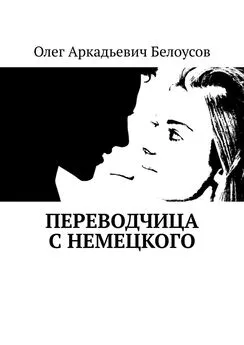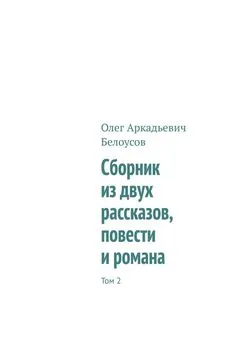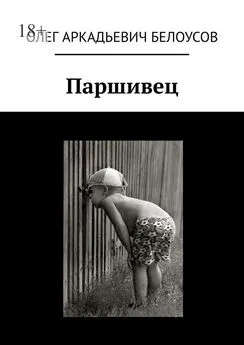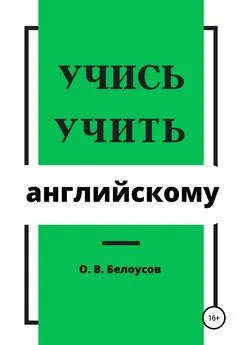Олег Белоусов - Это мой город
- Название:Это мой город
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Беларусь
- Год:2005
- Город:Минск
- ISBN:985-01-0525-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Белоусов - Это мой город краткое содержание
Эти главы были размещены на сайте
, который, к сожалению, прекратил свое существование после смерти автора. В бумажную книгу помимо публикуемой здесь мемуарной части вошли также воспоминания Олега Белоусова о его друзьях и коллегах.
Это мой город - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пришел я к этому убеждению после разговора с минским раввином, удивительно интеллигентным и доброжелательным, вовсе не старым еще человеком. В нашей беседе он обронил слова: «Все мы, в конце концов, люди Книги!» и эти слова запали в душу. Можно сказать,– Да! Три мировые религии ведут свое начало от Ветхого завета, Торы. Три мировые религии во главу угла ставят любовь к ближнему, руководствуются десятью заповедями. Но, раввин, имел в виду еще нечто. Думаю, в его словах было заложено то, что может объединить и верующих, и атеистов. Сказав, «все мы люди Книги» он подчеркнул непрерывность и неистребимость человеческого стремления к познанию, которое идет по двум дорожкам, дорожке собственно знания и дорожке веры, которые соединяются, сливаются в великих Книгах – Библии, Торе, Коране.
Однажды в разговоре с владыкой Филаретом, я вскользь затронул эту тему. Я опасался, что православный иерарх не разделит моих, в общем-то, дилетантско-светских, размышлений. Оказалось, нет! Оказалось он об этом глубоко и основательно думает. Оказалось, мои наивные эукуменистические воззрения в чем-то, не чужды и для него. Не чуждыми они оказались и для протестантов и для мусульман, с представителями которых не однажды заводил разговор о нас, как о «людях Книги».
Тогда и подумалось, может быть в этом и уникальность моей родины, что ей наиболее внятна идея человеческой общности, человеческого единения в любви, вере и знании. Что, за свою историю, пройдя по многим кругам страданий, неприятия, противостояния, она выработала некий «витамин толерантности», который позволяет преодолевать ненависть застилающую глаза, позволяет искать компромиссы в самых неожиданных ситуациях. Позволяет выживать, сохранять себя на самых свирепых исторических перекрестках. Может, терпимость наша, наша «толерантность», наше умение услыхать и принять иную точку зрения, услыхать оппонента, пройти мимо, не обратив внимания на агрессивную глупость, это извечное белорусское – «абы не было вайны!», свидетельствующее не только об антимилитаризме, но и вообще о неприятии насилия, давления, об активном «непротивлении злу насилием», каким образом и как, давшему плоды на нашей истерзанной насилием земле – это вовсе не слабость наша национальная, а сила и мудрость. Может быть потому, что подсознательно мы, живущие на белорусской земле, ощущаем свою общность, как «людей Книги», поражает различных, проводящих международные тестирования социопсихологов, тот высокий интеллектуальный уровень, который проявляется при общих исследованиях нашего народа, но не очень заметный в частной жизни каждого из нас. Может быть, значит это, что наше время еще не пришло, что все у нас еще впереди? Во всяком случае, что не все уже потеряно, что нужно верить и любить, надеяться и стремится, смирять гордыню, молиться и уповать!
Не всегда побеждает уверенный в своей силе Голиаф, когда-то приходит время носителя веры и разума – Давида!
ГЛАВА 38
Я родился в русскоязычной семье… И, должен сказать, в послевоенном Минске эта «ущербность» была неощутима. Может, происходило это оттого, что, развиваясь стремительно и бурно, Минск всасывал огромное количество приезжей публики, которая со временем должна была стать минчанами, гражданами моего города. Публика в основном была приезжая из России – начальники, специалисты, да и белорусы, возвращаясь домой, привозили, приобретенный за годы военного лихолетья, русский язык, как награду, как достоинство. Видимо, демографическая ситуация, когда «начальство» говорило сплошь по-русски, вызвало забавный феномен – наводнившие город выходцы из белорусской глубинки, закончившие нормальные белорусские школы, тоже «цураліся» родного языка, как деревенского, как родового свидетельства принадлежности к населению второго сорта.
Однако, пока мы носились по улицам, гоняли плоты по огромным лужам во дворах и делали набеги на соседские огороды – эта разница не замечалась и на то, кто с каким акцентом разговаривает нам было в высшей степени наплевать. Более того, став взрослым и начав задумываться над проблемой, как бы это сказать позаковыристей – «лингвопсихологиии» или «психодингвистики» выяснил, что и до войны эта проблема минскую пацанву нимало не мучила – во дворах, на улицах, по огородам совершенно спокойно «трекали» аж на трех языках – белорусском, польском и еврейском… Пожалуй, все же, точнее будет сказать о четырех равноупотребимых языках, поскольку русский звучал тоже, в основном в центре города, где всегда жило самое разнообразное начальство.
Впервые столкнулся с тем, что не все в порядке «в датском королевстве» в школе. В нормальной общеобразовательной, вовсе не элитной (таковых в моем детстве просто не было), вновь построенной в Добромысленском, ставшем со времени Добромышленским (уловите тонкую лингвистическую разницу) переулке школе №41. В нашем очень небольшом классе, дети военных, приезжих, имеющих документы о том, что они не белорусы, от изучения белорусского языка освобождались. Это была «дискриминация» навыворот. Можете себе представить реакцию нормального пятиклассника, который идет на урок «беляза» в то время, когда его сверстник отправляется гонять футбол во дворе школы. Это было несправедливой и нелегкой повинностью. Поэтому, у нас, не пользующихся какими либо специальными языковыми льготами, уроки белорусского языка воспринимались, не как радостное приобщение к языку родному, а как некая раздражающая, дополнительная, никому не нужная обуза. При этом следует добавить, что в возникавших в школьной среде «дискуссиях» о языке, преобладала убежденность, что вот-вот, совсем скоро, все языки в мире сольются в один и этот один будет, несомненно, русским, поскольку ведь не дураки разные американцы и французы, должны понимать, что социализм все равно победит, а книги Ленина написаны по-русски, ну, и, кроме того, это же совершенно ясно – русский самый богатый, самый красивый, и самый лучший в мире язык… Поэтому уроки русского языка и русской литературы были главными, ежедневными, я разные немецкие и белорусские в дневнике отмечались раз или от силы два в неделю. Почему это так было – недоумеваю до сих пор. Сегодняшний школяр, так же как и пятьдесят лет назад «долбит» русскую литературу, как главный предмет обучения, не имея представления, что есть и великая французская, немецкая, английская, китайская литературы… То же, примерно, отношение к языку и литературе сохранилось в университете. Причем, не на матфаке или физфаке, а на филологическом факультете Белорусского Государственного имени Владимира Ильича Ленина университете. Буквально на днях зашел разговор с коллегой, выпускником родимого отделения журналистики. Коллега, до сего дня сохраняя в душе глубочайшую обиду, рассказывал, как ему выпускнику белорусской сельской школы, было обидно, когда преподаватель ставил «отлично» приезжим из России студентам, ничего не смыслящим в белорусском, более того, сдающим его на русском языке, а ему, отвечающему по-белорусски, мыслящему по-белорусски – выставляли в зачетку банальнейший «уд». С коллегой мы не сошлись в мнениях, поскольку я предположил, что тот самый преподаватель, который принимал экзамены у него, просто таким образом выражал свой протест против оскорбительно незавидного места белорусского языка в нашей университетской программе и методики его преподавания. Смею предполагать, что моя точка зрения имеет право на существование, потому что я ведь тоже сдавал экзамены этому преподавателю, более того, сегодня, вспоминая его, я понимаю, что ему любящему и знающему родной язык было чудовищно непереносим, сам факт, что даже в среде студентов филологов белорусский воспринимается, как иностранный, не очень необходимый в жизни, как некий то ли уже испорченный, то ли слегка «недопеченный» русский.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: