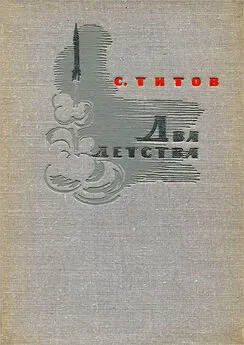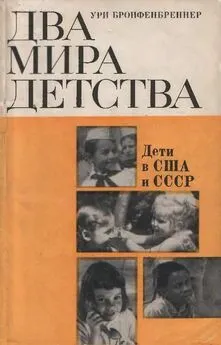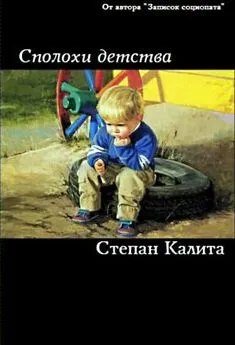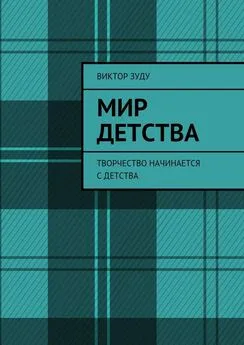Степан Титов - Два детства
- Название:Два детства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1965
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Титов - Два детства краткое содержание
Воспоминания автора биографичны.
Лирично, проникновенно, с большим привлечением фольклорного материала, рассказывает он о своем детстве, оттого что ближе оно пережито и уже давно сложилось в повесть.
Особенно интересны главы, посвященные возникновению коммуны «Майское утро».
Прекрасная мечта сибирских мужиков-коммунаров о радостном завтра, как эстафета, передается молодому поколению, к которому принадлежал Степан Павлович Титов. В боях с фашистами это поколение отстояло завоевание революции, бережно сохранив мечту о светлом будущем — коммунизме.
Без отцовской пристрастности, с большой внутренней требовательностью и чутким вниманием написаны страницы, рассказывающие о детстве сына — Германа.
Взыскательность отца-друга, отца-учителя понятна — ведь этому поколению претворять в жизнь то, о чем мечтали их отцы и деды.
Два детства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ромка Куклин два раза ходил, но не осилил, — сбили, шагнуть не дали. Два раза с позором стаскивали за ноги, а он в третий собирается. Здоровяк, жилистый!
— Что, ухарь, опять посыкаешься? [19] Пытаться, пробовать.
— Гляди, какой припас наготовили!
— Не осилишь по третьему — берегись, ерой! Снегу в штаны накладем.
— До сенокоса не проквасишься!
— У него прошлогодний залежался!
— Вытряси старый-то, — свежего изладим!
А Ромка, окаянная головушка, смеется, опоясывается, закрывает лицо руками и кидается так неожиданно, что только перед городом падает. И ведь ползком, засыпанный снегом, подобрался и сломал бы варначище [20] Шалун, забияка, озорник.
, отчаюга город, но оттащили за ноги: бери грудью, а не подкопом, — закона такого нет!
Приехали верховые ломать город конем. Тут-то и закипели защитники. Сейчас обрушится снежный шквал на смельчака. Нахлестывает верховой горячего коня, прорывается. Снежными залпами бьют в лицо всаднику, по глазам коню. Лошадь храпит, вертится, кидается в стороны… Близка цель. Прянул конь вдыбы, смял город, свалился седок. На него обрушивается неизрасходованный запас снега, а дед Бушуй кричит с крыльца:
— Лежачего не тронь, сукины дети!
Уходит масленица. Последний вечер. Приносим на гору по охапке соломы. В сумерках катаемся с горящими пучками. Уже совсем темно. Опустела гора. Из-под серого пепла смотрит в небо потухающий глаз сожженной масленицы, в черных ресницах обуглившихся соломинок. И месяца нет, не вышел…
Пост. Тихо в деревне, только топориками стучат под сараями: весна спросит, где телега с бороной. На мельнице день и ночь кружит тяжелый камень. На время половодья, когда размывает мельничную запруду, нужен сусек муки. Плещет и плещет водяное колесо.
Иду в гости к деду — отцу моей матери, где всегда хорошо встречают, а бабушка кормит жареными сочнями и галушками.
Дядья мои — Степан и Василий — балуют меня. Отправляясь в поле, завозят на гору порожние сани и сталкивают в них меня обратно. Захватывает дух от быстроты, слезятся глаза, сердце поднывает. Увидит бабушка подлетевшие к ограде сани, выскочит на крыльцо.
— Чтоб вас холера позабирала, иродовы дети! Сниму с тебя штаны да голиком напластаю!
Дядя подсевает пшеницу, я ловлю воробьев решетом, подгребаю зерно, насыпаю пудовку. На карнизе амбара лежат долота, пилочки и незнакомые инструменты. Надо узнать, что там еще есть. Сижу верхом на балке, разглядываю стружок. Стругануть охота. Приноровился, двинул, — стружок шмыгнул вперед, а я, потеряв равновесие, ухнул головой в полный сусек с мукой. Не успел крикнуть. Забило нос и рот, мука попала в глаза. Дядя сделался белее муки, когда увидел в сусеке мои дергающиеся ноги. Он выволок меня на свет. Пока лежал без памяти на предамбарье, дядя выковырнул из моего рта муку, дома бабушка вымыла в корыте. Дедушка сильно поругал дядю, попало и мне, когда ожил.
— Куда тебя, сопляка, потащило? Не было оприч другого места, родимец тебя изломай, прости ты меня, царица небесная!
Постом не едят скоромного: грех. Бабушка хлопочет у печи, вынимает глиняные корчаги, ставит на деревянный желоб. У корчаги внизу дырка, а в ней — затычка. Убери ее, — кинется теплой струей липкое, пахучее сусло [21] Изделие домашней кухни из солода.
. Подставляю ложку, пробую сладкую благодать, заедаю пенками.
Какой только еды не попробуешь за долгий пост. Утром обедаем похлебкой, жуем хрусткие огурцы, свежие коральки, натертые чесноком, днем паужинаем рассолом.
В большой чашке под пенным налетом кружит шипучий рассол, лежат наготове ложки, выгнув расписанные торбы. Занимаем свое место в застолье. Бабушка приносит с улицы надетые на руку большие коральки. Хлеб не режут: дедушка говорит, что ломаный кусок скуснее, вроде мяса. Он первый ломает хлеб, отщипывает кусочки и бросает в чашку. За ним начинают щипать остальные, только я, гость-мельник, прозванный так за полет в сусек с мукой, жду готового. Дедушка ложкой топит куски, а они выныривают.
— Таскайте с мясом, — говорит он, стукнув ложкой по краю чашки.
Вечером еда сменная. Густая кулага [22] Род пастилы.
разлеглась в чашке волнами. Макнешь в нее хлеб, она отходит к другому краю, а как все начнут тыкать кусками, — опадет, выставив бугорки калиновых ягод.
Бабушка меня закармливала.
— Ешь да расти, работы проси. Ребятки — что утятки: корми-подбавляй и проку поджидай. Жоркий утенок от корыта не отходит, — к осени тело наводит. От еды не бывает беды: середка полна — концы заиграют!
Я ел, а живот побаливал. Бабушка возилась со мной: растирала живот, поила соленым квасом.
Погостил, — как во рту посластил. Теперь надо домой. Тихий день идет со мной по деревне. За пухлыми облаками скапливается тепло, просачивается до земли. Парни и девки играют на соломе. Скотина лежит, — это к теплу бывает. Далеко еще весна, но слышно, что где-то идет она.
Дома мать говорит, что хозяину пора собираться на маслобойку. Пост долог. Бога поминай, а маслица припасай.
На маслобойке работа в разгаре. По настилу важно ходит тяжелый камень, чадит жаровня. Мужики стягами завинчивают пресс, в бачок струит из сосочка темное масло.
В ожидании очереди ведутся разговоры о житье-бытье, о том, что учитель читал газетку, где прописано, как наш царь сказал германскому: «Куда ты лезешь, елова голова? Где тебе одолеть мою Расею — обпачкаешься!» Ходят слухи, что неспокойно в народе, бунтуют города, что объявились большаки, какие, по слухам, гнут за народ, а царю, вишь ты, они не шибко глянутся. Замиренья бы к весне надо: пахать-то, почитай, некому стало.
— Ить как она, жизня эта, излажена?.. Живешь, робишь, горбишь… Туда повернулся — подай, сюда — отдай. Оглядишься — весь в долгу, как в ленточках! Нет крестьянину уюта. Что добыл в земле — не твое. Так чудней: пашешь, сеешь, молотишь, подать носишь, а потом — чистая диковина — посадят тебя на телегу и повезут убивать… Что к чему, пошто?!
Наелся я светлых сосулек с крыш, — заболело горло, по телу пошел жар, дыхание тяжелое. Поят меня настоем камфары, попарить в бане собираются в субботу, а сегодня позвали Митревну, чтоб поглядела, да где-то замешкалась.
Скучно лежать в избе. С завистью смотрю, как взрослые скрываются за дверью, а на дворе рассиялся день. Он заглядывает в окно, я с грустью смотрю на него. Вот и пес Черня сидит на клочке соломы, оглядывается, ищет меня. Поднимает ухо, послушает, да и начнет чесаться от безделья.
Пришла Митревна. Дверь, как в позевоте, распахнулась широко. Мне показалось, что кто-то проталкивает в избу обрезок толстого сутунка. В избе стало тесно.
— Доброго здоровьица, — прогудело надо мной. — Что закуксился?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: