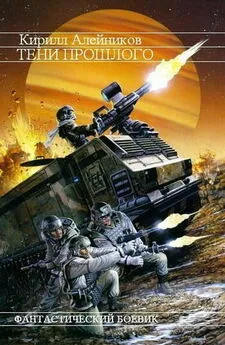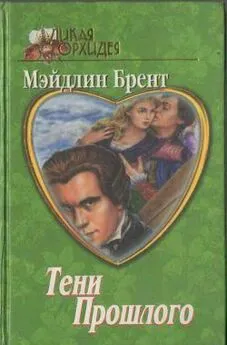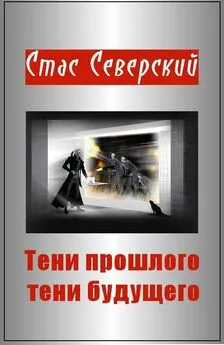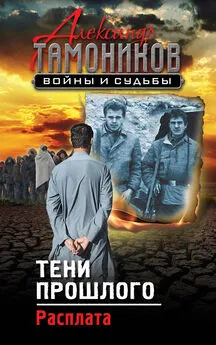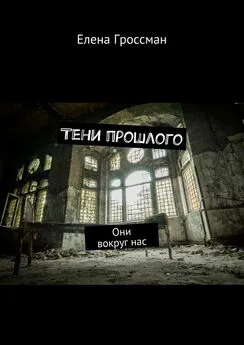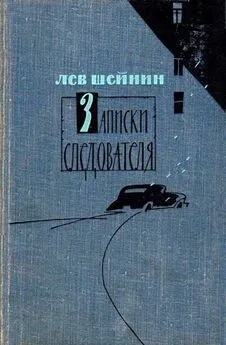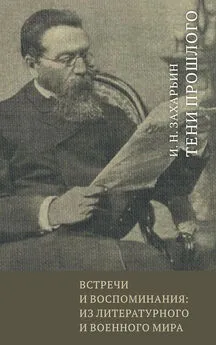Лев Тихомиров - Тени прошлого. Воспоминания
- Название:Тени прошлого. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство журнала «Москва»
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-89097-034-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Тихомиров - Тени прошлого. Воспоминания краткое содержание
Это воспоминания, написанные писателем-христианином, цель которого не сведение счетов со своими друзьями-противниками, со своим прошлым, а создание своего рода документального среза эпохи, ее духовных настроений и социальных стремлений.
В повествовании картины «семейной хроники» чередуются с сюжетами о русских и зарубежных общественных деятелях. Здесь революционеры Михайлов, Перовская, Халтурин, Плеханов; «тени прошлого» революционной и консервативной Франции; Владимир Соловьев, русские консерваторы К. Н. Леонтьев, П. Е. Астафьев, А. А. Киреев и другие.
Тени прошлого. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Племенной состав гимназистов у нас был самый разнообразный: больше всего было русоких, но почти столько же поровну — евреев и греков, сверх того, в небольшом количестве — итальянцы, немцы, татары, поляки. Из инородцев часть греков и евреев весьма плохо знали русский язык и говорили не только с акцентом, но путая грамматические формы и не схватывая точного смысла русских слов. Так, помню, очень хороший ученик Бухштаб, караим, в четвертом или даже пятом классе, описывая в сочинении Южный берег, выразился, что в имении князя Воронцова мебель «очень вкусная»: он хотел сказать, что она сделана с большим вкусом. Поэтому в низших классах русский говор был плоховатый. Но к средним классам он уже совсем выравнивался, потому что все инородцы очень старались хорошо выучиться по-русски, а все неправильности произношения и словоупотребления ежеминутно указывались им насмешками русских сотоварищей. Не знаю, мешало или помогало изучению русского языка то, что целый ряд учителей, как Пекюс и Меттро (французского языка), Пфафф (латинского), Кондопуло (греческого), отвратительно знали русский язык. Переводы у них часто бывали такие, что нельзя было добраться до смысла. Но воспитанники, насмехаясь над ними и передразнивая их, этим способом упражнялись в определении правильности русской речи — в схватывании того, что выражено учителем неправильно. Зато, конечно, от незнания учителями русского языка очень страдало изучение французского и латинского, преподаваемых ими. Конечно, постепенно выучивались и они по-русски. Пфафф (Владимир Богданович), говорят, впоследствии, после меня уже, даже хорошо усвоил русскую речь. Но при мне его уроки латинского языка были прямо смехотворны, особенно при изучении поэтов. Если у нас кто хотел и все-таки выучивался по-латыни, то благодаря другим учителям, как отчасти Великанов и больше всего — директор гимназии Матвей Иванович Падрен де Карне. Он тоже не мог отделаться от французского акцента и в особенно мудреных случаях не знал и смысла русских слов. Так, помню, раз чуть не вышел целый скандал на уроке Закона Божия. Учитель (отец Бершадский) спрашивал какого-то ученика о таинстве священства. Падрен де Карне зашел в класс и присел послушать ответы учеников. Речь зашла о том, что епископ «проручествует» на посвящаемого благодать Святого Духа. Отец Бершадский спрашивал ученика, что значит слово «проручествует». Тот не умел объяснить. Падрен де Карне принял укоризненно-насмешливый вид: «Что же вы не знаете слова “проручествует”?* Он полагал, что речь идет о слове “пророчествует”, на котором ставил неправильное ударение. Ученики, из которых многие знали смысл слова, стали насмешливо переглядываться. Но Бершадский, чтобы не допустить директора до скандального положения, моментально вызвал меня: «Тихомиров, объясните, что значит слово “проручествует”». Я, конечно, ответил: это значит, что епископ через наложение рук низводит благодать на посвящаемого. Падрен де Карне понял, в какое глупое положение он чуть было не попал, и одобрительно кивнул мне головой.
Но такие случаи незнания русских слов у него были редки. А латинский язык он знал превосходно, до тонкости, и любил его. Переводил он замечательно, ясно и образно, умея показать всю красоту выражения Вергилия или другого поэта, так что мы, ученики, бывало, истинно заинтересовывались и с удовольствием слушали урок. Даже скучное стихосложение оживлялось у него, а, помню, раз он прочитал нам описание морской бури в «Энеиде» — так что прямо можно было заслушаться. В его чтении слышался и шум волн, и свист и рев ветра, и мы тогда поняли, как поэтически подобраны у Вергилия слова, изображающие бушующую стихию.
Кстати, по поводу латинского языка. Время моего учения было временем введения классической системы образования, ее первых проб и постепенного развития. Граф Д. А. Толстой 16только что принял Министерство народного просвещения. У нас в Керчи учили сначала только по-латыни, потом ввели греческий язык, потом его отменили для высших классов, уже не имевших времени учиться ему сколько-нибудь сносно. Таким образом, я учился по-гречески едва три-четыре месяца у Кондопуло, которому по русскому языку можно было бы поставить не больше двойки. Я даже не выучился сносно читать и поныне не знаю греческой азбуки, а из фраз помню только: «И мефи микра мания эси», которую Кондопуло переводил: «Пьянство есть маленькое безумие». Да еще затвердил его постоянное приказание ученикам: «Кписси тин борде» («Затворяй двери»). Он, вероятно, боялся сквозняков…
Как известно, классицизм тогда возбудил всеобщий протест, который передавался и ученикам. Но Керчь страна классическая, воспоминания античного мира в ней живы, как нигде в России. Среди населения множество греков, желавших обучения в гимназии греческому языку. В общем, у нас среди воспитанников не было такого отвращения к древним языкам, как в других местах. По-латыни учились, пожалуй, более охотно, чем по-французски или по-немецки. Жаль только, что учителя были, за исключением Пад-рена де Карне, очень плохи. Я лично, не знаю почему, очень любил латинский и у порядочных учителей, вероятно, выучился бы хорошо. *Но нас душили грамматикой, авторов читали в микроскопических дозах и не заботились вводить в самый дух античного мира. В последнем отношении гораздо больше делали учителя истории и личное чтение учеников да исторические воспоминания Босфорского царства в бывшей Пантикапее, переполненной останками классической древности.
Я думаю, редкий житель Керчи не находил каких-нибудь обломков сосудов или статуэток античных времен, а многие находили и драгоценные сокровища. На гору Митридат после каждого с ильного дождя ходило много народу, особенно мальчишки, искать древности. Вся эта гора — какая-то насыпная, потоки дождя размывают почву и там и сям обнажают обломки ваз и статуэтки, которые эти искатели подбирают, чтобы продавать любителям. Таких любителей в Керчи много, и у некоторых были замечательные коллекции древних монет и других предметов. Керченский музей довольно беден. Все лучшие находки вывозились в Петербург. Но нельзя вывезти таких остатков древности, как Золотой курган и Царский курган в окрестностях Керчи.
Золотой курган получил свое название от большого количества драгоценных золотых предметов античных времен, в ней найденных. В нем множество подземных ходов, в которых легко заблудиться. По народным преданиям, в них заключена заколдованная красавица принцесса, которая будет освобождена только тогда, когда какой-нибудь смельчак похристосуется с ней в день Воскресения Христова. В награду за это он получит ее руку и несметные сокровища. Говорят, будто находились охотники попытать счастья и углублялись в пещеры кургана на Светлое Христово Воскресение, но ни один из них не возвращался назад: все бесследно исчезали в недрах недоступного кургана.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: