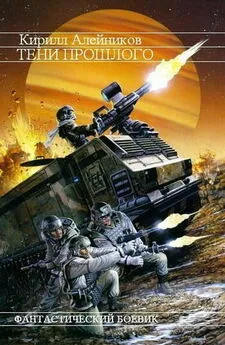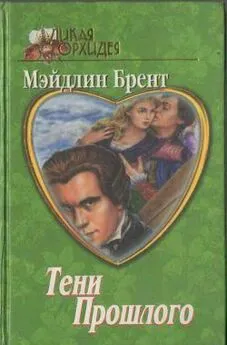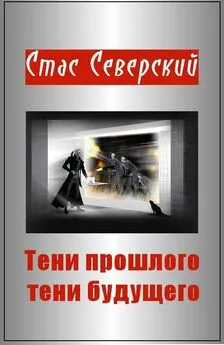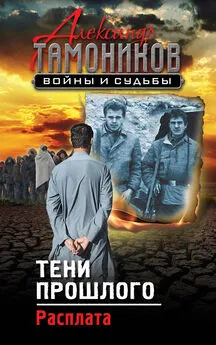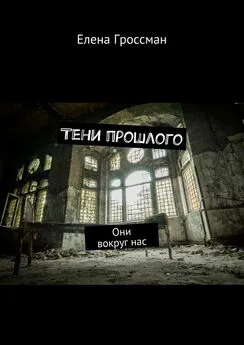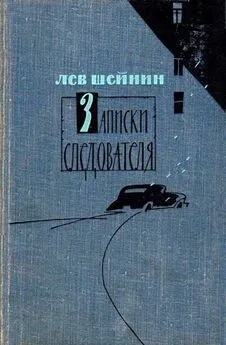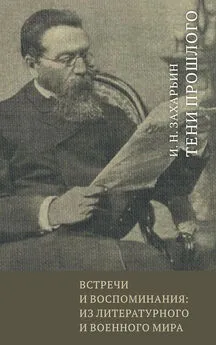Лев Тихомиров - Тени прошлого. Воспоминания
- Название:Тени прошлого. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство журнала «Москва»
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-89097-034-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Тихомиров - Тени прошлого. Воспоминания краткое содержание
Это воспоминания, написанные писателем-христианином, цель которого не сведение счетов со своими друзьями-противниками, со своим прошлым, а создание своего рода документального среза эпохи, ее духовных настроений и социальных стремлений.
В повествовании картины «семейной хроники» чередуются с сюжетами о русских и зарубежных общественных деятелях. Здесь революционеры Михайлов, Перовская, Халтурин, Плеханов; «тени прошлого» революционной и консервативной Франции; Владимир Соловьев, русские консерваторы К. Н. Леонтьев, П. Е. Астафьев, А. А. Киреев и другие.
Тени прошлого. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Год покорения Кавказа был достопримечательным лично для меня в том отношении, что я в том же 1864 году поступил в гимназию и впервые расстался со своей семьей. Ближайшая от нас гимназия находилась в Керчи. До Ейска, где воспитывался брат Володя, было слишком далеко, а Керчь представляла еще то удобство, что в ней жили близкие родные. Правда, Савицкие меня не приняли в свою семью. У Андрея Павловича дом уже был битком набит, да он и не любил брать на себя лишние попечения без строгой необходимости. Но все же, учась в Керчи, я находился под близким надзором Савицких. Квартиру же мне устроили у старушки Казиляри Фотиньи Федоровны, близко знакомой и Савицким, и нам. В гимназию меня повезла мама, и мы поехали в Керчь, понятно, на пароходе. Первое время, пока я не поступил в гимназию, так примерно недели две, мы с мамой жили у Савицких, и уже только при ее отъезде я перебрался к Казиляри или, точнее, к ее зятю Серафимову, у которого жила Фотинья Федоровна. Мне тогда было двенадцать лет, и я поступал во второй класс. Но я был мальчик чрезвычайно застенчивый, привык жить в домашней обстановке, обстановка чужая меня пугала и подавляла. Когда мама первый раз привела меня в гимназию, шумная толпа учеников, бегавших во всех направлениях, кричавших, игравших, меня ошеломила. Они подбегали и ко мне, расспрашивали; я же отвечал конфузливо и не смел на шаг отойти от мамы. Но пришел директор, Иван Тихонович Тихомиров, и отослал меня в класс. Тут уж я окончательно растерялся. Через несколько времени директор вызвал меня, расспрашивал о разных предметах, очень ободрил. Это был человек добрый и ласковый. Да и гимназисты меня не обижали ничем, и я был в растерянном и угнетенном состоянии просто по новости положения, в котором очутился. Учиться я хотел, и приемные экзамены мне показали, что я был прекрасно подготовлен и знал больше, чем от меня требовалось. Но мысль, что я должен остаться один, среди чужих людей, меня буквально подавляла. Такой тоски я, кажется, никогда в жизни больше не испытывал, даже когда попал в тюрьму III отделения. В это время у Савицких кто-то из дочерей разучивал на фортепиано гаммы, и потом в течение нескольких лет я не мог слышать гамм без появления гнетущей тоски. Чтобы утешить меня, мама купила мне прекрасной малиновой пастилы, и точно так же много лет это лакомство было мне отвратительно и один запах малиновой пастилы возбуждал во мне чувство тоски. Все, что только связано с этим переломом моей детской жизни, с этими двумя неделями определения в гимназию, было для меня противно. К счастью, маме некогда было долго со мной оставаться; со слезами я проводил ее (я в детстве был большим плаксой), но она уехала в Новороссийск, и, хочешь не хочешь, нужно было привыкать жить не держась за мамину юбку. Так началось мое шестилетнее гимназическое существование, в течение которого я из застенчивого ребенка вырос в бойкого, самоуверенного юношу.
Наша гимназия — Керченская Александровская — почти все это время находилась в периоде преобразований, как и все среднеобразовательные школы, и даже более, потому что она, накануне моего поступления, была преобразована в гимназию из Керченского уездного училища. Она и помещалась в здании бывшего уездного училища, на Строгановской улице, на самом берегу моря. От моря гимназический двор отделялся только небольшим домом, кажется Капитанаки или, может быть, Десподучи. Только уже при мне было построено новое, обширное здание, и двор гимназии увеличился раз в семь-восемь, подойдд к самому берегу моря, то есть Керченской бухты. Тогда в Керчь приезжал какой-то важный правительственный деятель, кажется Бутков, которого городское управление просило поддержать ходатайство города об уступке ему под гимназию участка земли, соседнего с гимназическим и принадлежавшего Морскому ведомству. Участок был пустопорожний и лежал без всякого употребления. Городское же управление имело некоторое право на внимание правительства, потому что содержало гимназию на собственный счет. Помню, что этот сановник посетил гимназию, осматривал здание, выходил и на двор. Директор (кажется, это был уже Падрен де Карне) сказал гимназистам: «Господа, на большой перемене не оставайтесь в классах, а бегите все на двор и там посильнее теснитесь. Пускай наш посетитель увидит собственными глазами, как тесен наш двор». Разумеется, мы усердно поддержали директора, и на дворе среди играющих, бегающих и упражняющихся в гимнастике учеников происходила истинная давка. Ходатайство города было поддержано, и на уступленном нам участке скоро стало воздвигаться новое здание, хотя его постройка порядочно затянулась из-за того, что один раз стены, уже почти совсем выведенные, обрушились, так что постройку пришлось вторично начинать почти заново. Свои гимназические годы я и начал, и провел в старом здании.
Оно, впрочем, было довольно недурно. Только для администрации не было квартир, за исключением надзирателя Стефанского, ютившегося в небольшом домике на отлете гимназического двора. Но курьезное зрелище представлял сначала персонал учащихся. Все бывшие «уездники» остались в гимназии, но по своим знаниям годились только для низших классов. Особенно своеобразен был второй класс, в который поступил я. Наряду с большинством мальчиков двенадцати-тринадцати лет, вновь навербованных, в классе сидели «уездные» гренадеры лет по восемнадцати. Это были громадного роста Стрелков, лет двадцати, Задворсцкий, потом Николаев, Мамалыгин, Бабасюк. Все они, насквозь пропитанные табаком, иногда сильно пьющие (как Задворецкий), недолго продержались в гимназии и года в два-три выбыли, то проваливаясь на экзаменах, то убеждаясь, что в их годы бессмысленно думать об окончании курса гимназии или даже прогимназии. Но первое время состав учащихся был в высшей степени антипедагогичен, потому что, конечно, ни преподавание, ни дисциплину нельзя было правильно установить для совместно учащихся детей двенадцати лет и взрослых юношей восемнадцати лет. Из этих великовозрастных товарищей я года через три встретил Мамалыгина низшим служащим в почтамте, Задво-рецкого — телеграфистом в Тамани, а Бабасюка — дрогачом на извозчичьей бирже. Бабасюк, здоровый, неповоротливый мужик, таскавший кули, настолько уже отрешился от школы, что стыдился и встречаться с бывшими товарищами, хотя они обращались к нему совершенно дружелюбно.
При поступлении в гимназию я в ней встретил только двух знакомых учеников: один — Ваня Завадский из Темрюка, другой — Ваня Перепелицын из Новороссийска. Оба недолго пробыли в гимназии и вышли, не кончивши курса. Перепелицын был один год моим товарищем по классу и, кроме того, жил вместе со мной у Серафимовых. Это был страшный шалун и лентяй, но в обычных товарищеских отношениях добрый малый. Сын какого-то маленького офицера, он вышел из совсем не интеллигентной семьи и был очень плохо подготовлен к гимназии. Учил его в Новороссийске, вместе с другими мальчиками, какой-то юнкер Врублевский, сам круглый невежда. Так, например, он объяснял своим злополучным ученикам, что есть числа, которые «нельзя сложить». Он именно умел складывать цифры только в том случае, если сумма слагаемых не превышала десятков, но если из слагаемых получались сотни и, значит, сумму приходилось переносить не через одну цифру, а через две, то учитель становился в тупик и объявлял, что этих\цифр сложить нельзя. Впрочем, Ваня и не имел ни малейшего желания учиться. В классе он вечно шалил, мешал товарищам, передразнивал исподтишка учителей и, вероятно, каждый день стоял в углу. «Ступай в Камчатку», — говорил ему учитель Рещиков, и Ваня послушно отправлялся в угол, где на повешенной на стене карте России как раз приходился Камчатский полуостров. Надзиратель Сте-фанский не ограничивался Камчаткой, а обыкновенно выводил Ваню за чуб совсем в коридор, и Ваня шел дробными шажками, держась очень прямо и только нагнув голову, чтобы чуб его не вырвался из руки Стефанского. В товарищеской среде он постоянно сквернословил и ругался гнуснейшими непечатными словами, но это в гимназии было очень обычно. За редкость можно было встретить ученика, у которого всякая похабщина не сыпалась походя с языка, как у самых грубых мужиков. В этом отношении «уездники» были развратителями всей гимназии. Когда все они мало-помалу выбыли, воспитанники стали гораздо более приличны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: