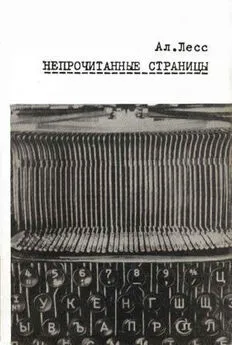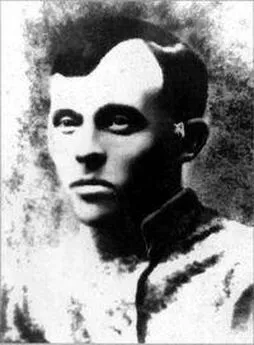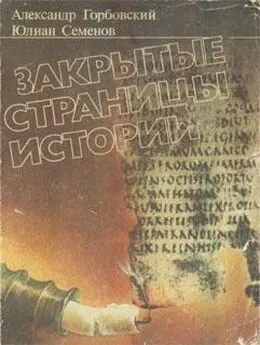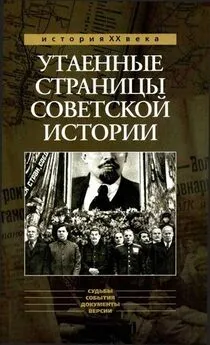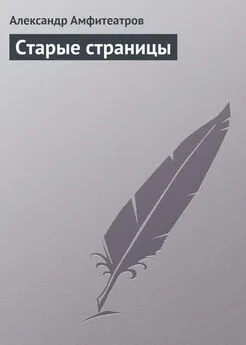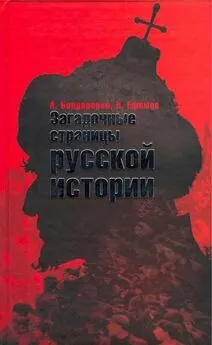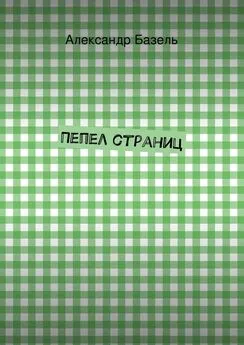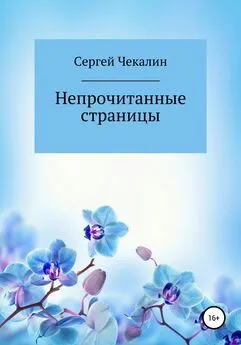Александр Лесс - Непрочитанные страницы
- Название:Непрочитанные страницы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1966
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Лесс - Непрочитанные страницы краткое содержание
Непрочитанные страницы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Только с Миронычем он делился своими думами.
И тогда, видно, пришло неожиданно решение и сразу овладело всем существом старого поэта: то, что происходит сейчас в его стране, в его городе, он не может изменить — он стар, слаб и болен. Но жизнь его принадлежит тем, кто по ту сторону фронта. А от тех продажных и назойливых людишек, которые не оставляют его в покое, лезут непрошеные, незваные в дом, тщатся соблазнить сытой жизнью,— от этих надо отделаться раз и навсегда. Пусть знают, что нет им доступа к старому, честному литератору.
В этот день Павел Павлович впервые не впустил к себе Мироныча, сославшись на нездоровье. Медленно, не торопясь, по-хозяйски он заколотил ставни, запер входную дверь и заставил ее старинным громоздким шкафом.
Вечером Мироныч заметил тонкий луч света сквозь закрытую ставню. Встревоженный, Мироныч прильнул глазом к щелке. При тусклом свете коптилки Павел Павлович шагал по комнате из угла в угол. Через ставню были слышны его мерные, тяжелые шаги, а по стенам ползала огромная длинная тень его фигуры.
В течение ночи Мироныч несколько раз подходил к ставне — Павел Павлович все ходил и ходил... Иногда он садился за письменный стол, перебирал старые бумаги, газетные вырезки, черновики когда-то написанных стихов... Павел Павлович замкнулся в себе. Он как бы выключил себя из жизни, он стал глух и нем...
С каждым днем убывали скудные запасы пищи, которые ему удалось сохранить. Должно быть, он разделил хлеб и крупу на крохотные дольки и свято следил за тем, чтобы не съесть больше того, что было определено на каждый день.
Через несколько дней коптилка уже не горела по вечерам за щелкою ставни, но Мироныч по-прежнему улавливал слухом те же тяжелые, мерные шаги. Он пробовал постучаться к другу, но тот не ответил...
Прошло еще несколько дней, и над Харьковом загрохотали разрывы снарядов. Вскоре загремели выстрелы на улицах — войска Советской Армии ворвались в город.
Мироныч изо всех сил колотил в дверь:
— Павел Павлович!.. Наши пришли!.. Откройте же, наши!..
Но Павел Павлович не откликался.
С помощью бойцов Мироныч взломал дверь и открыл ставни. В распахнутые настежь окна вместе со свежим весенним ветром ворвались жаркие лучи солнца. Осветив комнату, они ударили в лицо Павла Павловича. Торжественный, в накрахмаленной сорочке, в парадном костюме, Павел Павлович лежал на письменном столе, за которым много лет писал, работал, творил... Он не подпустил врагов к своему столу. Он был мертв. Лицо его было светлым и спокойным — смерть еще не успела придать его чертам окаменелость.
На могиле Павла Павловича нет памятника. Но старожилы Харькова легко находят ее на старом заброшенном кладбище и убирают цветами.
ВИКОНТ ЖАН ВЯЗЕМСКИ
Писатель Александр Смирнов, разделивший в фашистском плену тяжкую, горькую участь тысяч советских воинов, рассказал однажды случай, глубоко меня взволновавший. Вот что я услышал:
— В тысяча девятьсот сорок четвертом году, после трех лет скитаний по гитлеровским лагерям смерти, я попал в госпиталь военнопленных Шморкау, расположенный под городом Кенигсбрюкк, неподалеку от Дрездена. Я заболел плевритом, осложненным желтухой. Болезнь причиняла невыносимые страдания и так измотала, что я стал, как говорили в лагере, «фитилем» или «доходягой» — без посторонней помощи не мог взобраться даже на второй этаж нар.
Госпиталь помещался в старинной помещичьей усадьбе. В нем находились англичане и французы, итальянцы и бельгийцы, югославы и советские военнопленные. Но нас, советских, держали отдельно от «Европы» — в конюшнях, отгороженных колючей проволокой.
Дня через два после прибытия в госпиталь мой сосед Устинов — бывший бухгалтер Ивановского треста столовых, с которым я подружился,— протянул мне крашеное пасхальное яйцо — это было в канун пасхи — и книжку русского писателя Ивана Шмелева «Праздники Господни».
«Возьми, друг!» — сказал он.
«Откуда это у тебя?»
«Да ведь я числюсь в команде выздоравливающих... «Генезен Командо», как говорят немцы... Послали меня сегодня в «Европу» двор подметать... Вот там я и «подкалымил» кое-что — окурков набрал, а потом подошел ко мне один французский офицер... По-русски говорит свободно, как мы с тобой... Дал он мне пару яиц и эту вот книжку... Почитай-ка!..»
Неожиданный подарок Устинова растрогал меня. Повеяло вдруг чем-то родным, очень русским, вспомнилось детство, отчий дом на Волге... И хотя в тот момент было не до чтения, я жадно начал листать страницу за страницей. В конце книги внимание привлек экслибрис, показавшийся непонятным: «Из книг виконта Жана Вяземски».
А на следующий день Устинов свел меня с владельцем книжки. У колючей проволоки я увидел высокого, стройного, даже изящного человека в поношенном мундире офицера французской армии. Тоненькая ниточка усов оттеняла его худощавое, бледное лицо с запавшими щеками.
К моему удивлению, собеседник действительно отлично владел русским языком.
Помнится, я спросил:
«Не в родстве ли вы с поэтом Вяземским?.. У вас какая-то странная для француза фамилия... Она и не русская и не французская...»
«Да, я правнук князя Петра Андреевича Вяземского... Мне было три года, когда гувернантка-француженка увезла меня из Петербурга в Париж... Она воспитала меня и заменила мать... Потом началась война, я был призван в армию, получил ранение и попал сюда...»
Жан Вяземски помолчал, затем сказал:
«В нашей семье имя Пушкина всегда было святым...»
Смирнов прервал рассказ, глубоко вздохнул и продолжал:
— Понимаешь, он сказал: «Пушкин!»... Впервые за три года войны и плена я услышал имя Пушкина... В этой гигантской фабрике смерти, где ежедневно от голода и болезней умирали десятки людей, среди унизительного бесправия и безнаказанного произвола, слово «Пушкин» обрело для меня совсем иной смысл, оно было синонимом жизни...
С того дня Жан Вяземски регулярно приходил к колючей проволоке и незаметно вручал мне свертки. Это были остатки продовольственных посылок, которые через Красный Крест поступали иностранным военнопленным. Передавая драгоценную ношу, Вяземски всякий раз произносил одну и ту же фразу; «Возьмите. Это вместо венка на могилу погибших русских товарищей». В посылках были крупа, галеты, консервы, папиросы, попадался даже шоколад, и все это мы делили на равное количество частей. Передачи, организованные Жаном Вяземски, поддерживали обессиленных, измученных голодом и болезнями товарищей, а некоторых просто вернули к жизни.
Настал наконец день, которого мы ждали долгих три года: войска Советской Армии вступили в Саксонию. Фашистский гарнизон госпиталя, чувствуя близость конца, решил нас уничтожить. Узнав об этом, Жан Вяземски и военнопленный полковник Ермашов организовали группу самообороны; они завязали бой и разгромили эсэсовцев. В бою Вяземски был тяжело ранен, и я потерял его из виду...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: