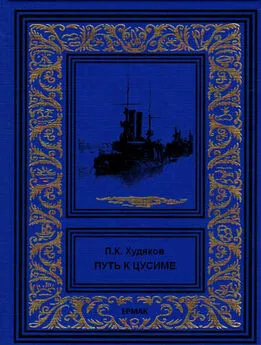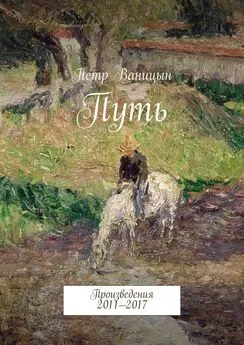Петр Худяков - Путь к Цусиме
- Название:Путь к Цусиме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ермак
- Год:2015
- Город:Комсомольск-на-Амуре
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Худяков - Путь к Цусиме краткое содержание
Худяков собрал в этой книге уникальные свидетельства участников подготовки и похода Балтийско-Цусимской эскадры. Свидетельства преступной безответственности и некомпетентности, воровства и коррупции чиновников военного министерства, всей бюрократической системы. Адмиралов, которые не умели управлять кораблями, насыщенными новейшими техническими средствами; наместников, которые заботились только о своем кармане; политиков, которые все видели, но молчали; людей — которые подготовили Цусимскую трагедию, но, как и принято в России, не понесли за свои преступления никакого наказания.
Книга посвящена памяти инженеров-механиков флота — выпускников Императорского Московского технического училища погибших в Цусимском сражении.
Путь к Цусиме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
При классификации подсудимых по степени их виновности, при определении — кто только не нашел в себе мужества ослушаться воли начальства, а кто активно содействовал акту сдачи, путем ли убеждения, или действием семафора или поднятием флага, важным материалом служили показания матросов, нижних чинов. Свидетель Мицевич показал следующее: "Когда увидели неприятельские суда, сперва около 11 штук, Небогатов сказал: "не сдамся им", а потом, когда их подошло 28 кораблей, все в полном порядке, адмирал сказал: "мне за 60 лет, мне осталось жить всего 2–3 года, а вас, молодых, мне жалко. Так, вот, как вы думаете: если примем бой, все погибнем, а если я сдамся, все будут спасены. В ответе буду только я. Весь позор падет на мою голову". Команда ничего не сказала. На судне было такое мнение, что командир "Николая I", капитан 1-го ранга Смирнов, был за сдачу. Когда команду после сдачи посадили на японское судно "Шикишима", все стали с любопытством смотреть, какие повреждения успела нанести этому судну наша артиллерия; оказалось — почти никаких. Судно было чистенькое, как будто вышло на парад. Палуба была вымыта так, как у нас и в мирное не бывает. На пушках краска даже не потрескалась, a у нас пушки были заржавелые. Словом, больно было смотреть, до чего у них все в порядке, a у нас нет. Конечно, если бы мы и думали сопротивляться, Японцы потопили бы нас шутя. В это время Японцы позволяли команде еще расхаживать по судну, но потом они стали запирать нас"… Свидетель Шевченко идет дальше. Он рисует момент, предшествовавший сдаче так, что Небогатов вовсе не решал вопроса о сдаче, но, собрав команду и изложив положение дела, спросил мнения: хотят ли сражаться или предпочитают сдачу, не скрыв, что сражение — значит гибель всех. Команда нашла, что всего правильнее будет сдаться. После этого адмирал велел поднять флаг о сдаче. Все же Японцы продолжали некоторое время стрелять. Прекратилась стрельба лишь тогда, когда подняли японский флаг по международному своду.
Из допроса свидетелей выяснилось, что на броненосцах отряда Небогатова орудия были старые, образца 77 года, спасательных средств было мало, шлюпки были разбиты, и единственно, чего было достаточно, это патронов для ружей и пулеметов.
По вопросу о самой сдаче свидетели показывают вообще сходно. Но один свидетель очень оригинален: на вопрос, что ему известно по настоящему делу, он ответил, что ему ничего неизвестно. Если бы не было удостоверено, что он служил подносчиком для снарядов при орудии на броненосце "Николай I" в день Цусимского боя, то можно было бы подумать, что он там никогда не был, — так мало запечатлелись в его мозгу происшедшие на его глазах события! А между тем это — грамотный и очень видный малый; подпись свою на показании следственной комиссии он узнал, а что говорил и что видел, все накрепко позабыл и, по-видимому, вполне искренно.
На суде выяснился затем еще следующий курьез: — "Возвратившись с первой разведки 15 мая кр. "Изумруд" передал в рупор, что на горизонте виднеются "Наварин", "Нахимов", "Олег" и рядом с ними французские суда"… (показание прап. Шамие).
Флагманский артиллерийский офицер, кап. II р. Курош открыто заявил на суде, что хорошо знает всю историю снаряжения Балт. — Цусимской эскадры, и хотел было уже рассказывать, как "Морской Технический Комитет… спал", когда это ему не следовало бы делать; но председатель суда не допустил сделать этих разоблачений.
Из показаний оф. Куроша и Беляева выяснилось, что отряд Небогатова два раза пробовал стрелять в Индийском океане на расстояние до 60 кабельт. В первый раз снаряды долетали только до половины этого расстояния, а во второй раз удалось разбить два плавучих щита.
На суде тем не менее выяснилось затем, что перед уходом в поход старый бр. "Николай I", возвращенный из-за границы из-за негодности, ремонтировался плохо и в течении всего трех месяцев, тогда как, напр., ремонтом нового бр. "Александр III" занимались полтора года. Перед сдачей Японцам котлы на "Николае" были умышленно, яко-бы испорчены: в них была пущена морская вода вместо пресной.
Далее выяснилось: 1) что на флагманском бр. "Николай I" только предполагали поставить новые орудия, а поставили все-таки старые шести-дюймовые, образца 1877 года; 2) что в Либавском порте снаряды при выгрузке из вагонов клали прямо на снег , a в погреб грузили уже потом по мере возможности; точно также снаряды выгружались прямо в снег даже и тогда, когда надо было их грузить на броненосцы, но подвозные пути к ним были временно заняты; это делалось "из экономии", чтобы не платить за простой вагонов лишние сутки; а затем нанимались мастеровые, чтобы грузить те же самые снаряды на портовые платформы, на которых снаряды уже впоследствии подвозились к месту стоянки броненосцев.
Лейт. Пеликан о снарядах рассказывал на суде следующее: — "Нас учили, и я сам учил этому других, что снаряды при ударе о препятствие не должны разрываться, они должны только пробивать его. Настала война. Появилось в газетах известие, что японские снаряды никуда не годятся , они рвутся при ударе о броню и воду, наши же снаряды великолепны… И мы были твердо в этом убеждены . Действия наших снарядов ранее мы никогда не видели ; в артиллерийском отряде ими не стреляли; не было на это разрешения, "дорого стоит"… Правила стрельбы были такие: при расстояниях свыше 20 кабельт. стрельба из пушек по броненосным судам должна была вестись фугасными снарядами; при расстояниях между 20–10 кабельт. 12-дюймовые орудия переходят на стрельбу бронебойными снарядами; пушки же 6-дюйм. и 120-миллиметровые начинают стрелять бронебойными снарядами только при уменьшении расстояния до 10 кабельт. Для пушек "Николая" и это расстояние в 10 кабельт. было велико"… И это был флагманский броненосец. Этим и объясняется, что бронебойных снарядов утром 15 мая оставалось на "Николае" еще изрядное количество: "12-дюймовых из 60 штук было израсходовано только 18; 9-дюймовых из 100 штук было израсходовано только 23; 6-дюймовых из 578 было выпущено 318, оставалось 260 (показание лейт. Пеликана); фугасных же оставалось очень немного: 12-дюйм. были выпущены все 72 штуки; 9-дюйм. оставалось только 12 шт. из 250; 6-дюйм. был еще запас в 138 шт. из 882".
В помещениях для хранения снарядов температура бывала выше нормы ; принимались меры для устранения этого, но они этой цели не достигали; эти обстоятельства оказали свою долю влияния на качества пороха, и снаряды получали поэтому недолет против установленных норм ; величину недолета при выстреле из 10-дюйм. орудия оценивали, примерно, в 5 кабельт. при заданной дистанции в 55 кабельт.
Вооружение "Сенявина" происходило во время забастовок Обуховского и Путиловского заводов, прошло очень спешно и неудовлетворительно; пришлось многое исправлять и налаживать уже в походе; при таких условиях "не шли, а бедствовали", т. к. работать в это время было очень трудно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: