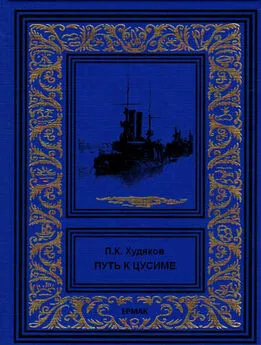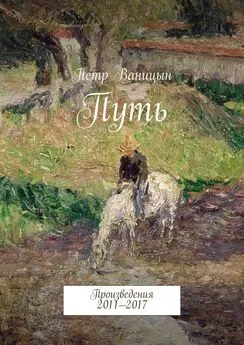Петр Худяков - Путь к Цусиме
- Название:Путь к Цусиме
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ермак
- Год:2015
- Город:Комсомольск-на-Амуре
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Худяков - Путь к Цусиме краткое содержание
Худяков собрал в этой книге уникальные свидетельства участников подготовки и похода Балтийско-Цусимской эскадры. Свидетельства преступной безответственности и некомпетентности, воровства и коррупции чиновников военного министерства, всей бюрократической системы. Адмиралов, которые не умели управлять кораблями, насыщенными новейшими техническими средствами; наместников, которые заботились только о своем кармане; политиков, которые все видели, но молчали; людей — которые подготовили Цусимскую трагедию, но, как и принято в России, не понесли за свои преступления никакого наказания.
Книга посвящена памяти инженеров-механиков флота — выпускников Императорского Московского технического училища погибших в Цусимском сражении.
Путь к Цусиме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мичман Карпов сказал ответную речь прис. пов. Волькенштейну. "Каждый офицер эскадры мог бы, если бы захотел, предотвратить сдачу и должен был это сделать, т. к. только смерть могла ему помешать в этом. Мы не умерли, не затопили судов; значит, мы виноваты. Говорят, мы встретили бы противодействие во всех и в команде. Если бы это и было так, то все-таки офицеры не исполнили того, что было нужно: они были бы правы, если бы умерли под этим противодействием команды. To, что было 14-го и 15-го, было нечто совершенно разное; 14-го мы не думали о смерти, у каждого была своя работа, свое дело; 15-го мы приготовились к смерти еще до начала боя. Тот, кто говорит, что легко умирать, тому ни разу не приходилось умирать; 15-го не могло уже явиться такого порыва, который был 14-го; и у меня лично 15-го отсутствовало мужество. Когда мы узнали о своем несчастье, о сдаче, у нас явилось чувство долга и чести, но мужества и протеста не было, п. ч. мы не были теми железными людьми, какими должны были быть. Слова противодействия, слова протеста ничего не значат. Это ничто. Здесь много говорилось о мужестве, говорилось, что Рожественский подстрелил бы первого, который бы ему не подчинился. Но если так понимать мужество, то я должен сказать, что прежде чем начальник застрелил бы подчиненного, подчиненный застрелил бы начальника. Мы — не бессловесные животные, хотя эту бессловесность всячески в нас воспитывали. Присмотритесь, как Японцы вели дело, и отчего зависел их успех; а затем сравните с тем, что — у нас. После смерти начальника у нас некому заменить его. У них это иначе; их воспитывают по другому; с ними говорят, как с людьми. У нас не допускают ни слова протеста; у нас подчиненный послушен до раболепства; он не смеет критиковать. Полное отсутствие критики убивает мышление, и человек уже ни в чем не может проявить своей инициативы. Ее проявления должны были от него требовать"…
В речи прис. пов. Адамова, который защищал лейт. Кросса и механика Хватова, отметим следующие места: — "В чем могло выразиться противодействие сдаче? Следовало ли поднять одну часть команды против другой, перевязать офицеров, убить адмирала?… Ни один морской офицер не может ответить на эти вопросы. Ни в корпусе, ни в академии, нигде никогда об этом ничего не говорилось. Этот факт стыдливо обходится и законодателем. Но может быть практическая жизнь выработала эти правила? Адм. Рожественский — представитель этой практической жизни. Он был не только командующим эскадрой, но и начальником штаба. От него мы слышали: моя воля — закон; никто не смеет мне противоречить; я застрелю всякого, кто не будет повиноваться "… Чего же после этого требовать от подчиненных. Нельзя представить себе возможности не повиноваться, когда и закон, и начальство приказывают повиноваться. Мы знаем, что протестов никаких не допускалось, повиновение ставилось на 1-й план. Теперь мы пожинаем плоды этого подчинения. Припомним здесь кстати слова говоривших здесь офицеров. Когда кто-либо протестовал, его сажали на гауптвахту, a когда подавал рапорт, начальство отвечало на него: "Прошу глупых рапортов не подавать"… По поводу своего другого подзащитного кап. Хватова, прис. пов. Адамов спрашивает, "зачем его держали почти целый год в ожидании суда, если теперь прокурор отказался от его обвинения. Хватов не виноват, а его, семейного человека, держали восемь месяцев на 32 р. жалованья. Может быть, это — то самое, что бывало в доброе старое время при крепостном режиме: когда маленький барин провинится, то секут мальчишек, чтобы это видел барин и понимал"…
Прис. пов. Бабянский, военный юрист, защищавший второстепенных офицеров, в своей речи указал между прочим на следующее: — "Мы охотно допускаем, как это предполагает г. прокурор, осуществление особого суда, установленного для рассмотрения дел о крушениях и повреждениях судов, коему было бы поручено гласное расследование причин гибели русского флота; причем в качестве прикосновенных должны быть привлечены все начальствовавшие лица во флоте в продолжение последнего полустолетия, все строители кораблей, поставщики, а также представители и представительницы тех посторонних влияний, которые создали атмосферу протекции в управлении флота, ту атмосферу, которая препятствовала выдвигаться вперед людям знания, долга и таланта. Пусть этот суд учтет, сколько миллиардов народных денег было затрачено без пользы и цели". Защитник выразил однако сомнение, что деятельность комиссии адм. Дикого стала достоянием общества.
В речи прис. пов. Дубенского, который защищал механика Беляева, одного из тех лиц, которые по образному выражению прокурора, были как бы "замуравлены в глубине корабля", отметим следующие места: — "Если шлюпок имеется на 200 чел., а команды 600, что делать тогда? Кого из команды спасать, кого оставить? Нельзя же было предоставить команде брать шлюпки с бою!.. Да и спуск шлюпок при тех обстоятельствах, которые достаточно здесь были выяснены на суде, представляется весьма трудным, едва ли осуществимым под выстрелами неприятеля… Затем Небогатов якобы не озаботился заблаговременно приготовить корабли к затоплению, раз он еще накануне убедился в подавляющем превосходстве японских сил. Но в таком случае это следовало бы сделать еще в Либаве, так как и тогда уже не было более сомнения в превосходстве сил Японцев. Наконец утром 15 мая Небогатов еще не знал о разгроме всей нашей эскадры; он не знал, что Рожественский — в плену. Даже отправленный на разведку "Изумруд" донес, что показались 4 наших крейсера… Когда Ной посылал из своего ковчега на разведку голубя, тот принес ему гораздо более точные сведения, чем Небогатову наш быстроходный крейсер "Изумруд"…
Прис. пов. Соколов, защищавший мичмана Дыбовского, огласил на суде выдержки из письма лейт. Вырубова, погибшего на броненосце "Суворов". Этот герой оставил письмо, в котором описывает настроение, общее не только команде, но и офицерам, бывшим на войне. Это настроение выражалось в намерении, если не победить врага, то нанести ему такой вред, который можно было бы охарактеризовать словами — "корабль за корабль". Но это были только мечты мичмана… Вот что пишет Вырубов с Мадагаскара об адм. Рожественском: — "На других кораблях адмирал не был с ухода из России. Командиры судов собирались у него три раза… Судите сами, можно ли при таких условиях знать свою эскадру? Ничьи советы не принимаются, даже советы специалистов по техническим вопросам; приказы пишет лично, обыкновенно с маху, не разобрав дела и прямо поражает диким тоном и резкостью своих неожиданных выражений. Благодаря недостаточной осведомленности выходят иногда довольно курьезные анекдоты. Командиров и офицеров считает поголовно прохвостами и мошенниками; никому ни на грош не верит, на что не имеет никаких данных… Добрые люди наконец надоумили адмирала — произвести учебную стрельбу. Ведь мы с Ревеля еще не стреляли. Три дня выходили в море всей эскадрой и стреляли по щитам. Первая стрельба была неважная, но 2-я и 3-я прекрасные. До очевидности ясно, как нам нужна практика"… В конце своей речи прис. пов. Соколов выразил следующие мысли: — "Здесь на суде мы хотели расширить программу настоящего дела. Нам сказали, что есть комиссия, которая занимается исследованием, имеет широкую задачу — дать надлежащее освещение последнего момента существования нашего флота и Цусимской катастрофы. Но ведь исследование всякого события слагается из трех элементов: причин и условий , при которых событие произошло, затем самого события и наконец последствий его. Мы начали исследование как-то странно. Причины отбросили, а исследуем самые события, забывая, что выход из Либавы неподготовленной к бою эскадры является логическим последствием неправильной постройки и оборудования эскадры; забываем, что Цусимская катастрофа является логическим последствием неподготовленности нашего флота, а сдача в плен эскадры Небогатова есть неизбежное логическое последствие катастрофы 14 мая. Положа руку на сердце можно сказать, что пленение нашего флота было предрешено еще в то время, когда его строили, когда к нему прикасались легкомысленные и, простите, может быть, нечистоплотные руки… Мы знаем, напр., что материалы, предназначенные для флота превращались в царскосельскую дачу… Если бы мы стали сперва исследовать причины и условия, а затем определять последствия, то все дело получило бы совершенно иное освещение".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: