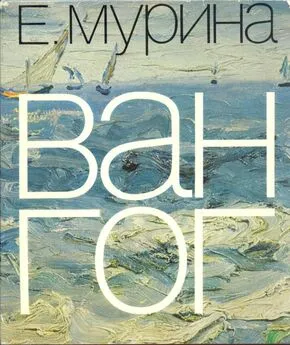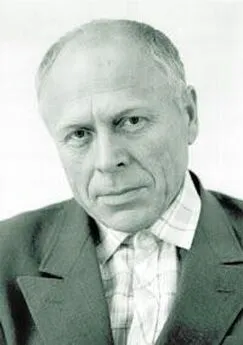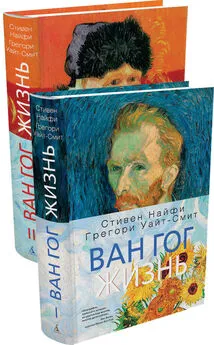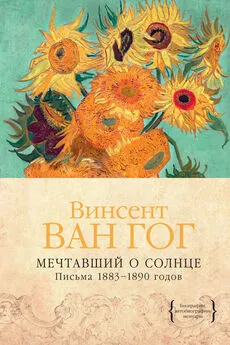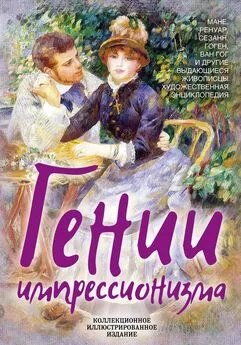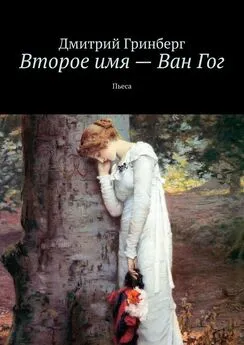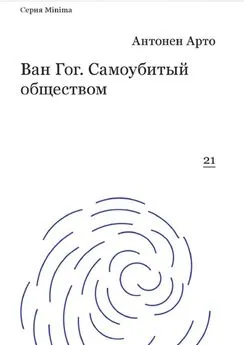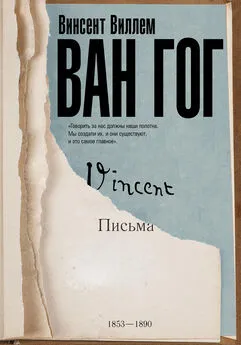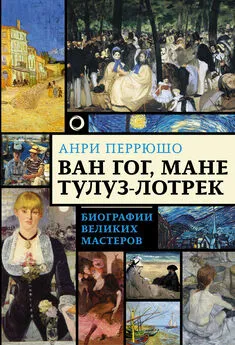Елена Мурина - Ван Гог
- Название:Ван Гог
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Мурина - Ван Гог краткое содержание
Ван Гог - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он сам мечтает «сказать картинами нечто утешительное, как музыка», и японцы, которые для него самого сыграли эту роль утешителей, являются в этом отношении образцом.
Но образец никогда не определяет сущность, скорее, сущность определяет выбор образцов. Противоречивая сущность Ван Гога претерпевает ряд трансформаций, и арльская метаморфоза в «поклонника Будды», «прикоснувшегося» к Японии, — лишь одна из них. Не зря бесчисленные упоминания Японии и «японщины», которыми наполнены письма Ван Гога арльского периода, после одного тяжелого приступа становятся все реже и вскоре прекращаются вовсе 77.
С этой точки зрения упоминавшийся автопортрет Ван Гога особенно интересен как воплощение сознаваемого самим художником несоответствия его сущности с принятым на себя званием «бонзы, поклонника Будды».
Автопортрет был написан в сентябре 1888 года в обмен на автопортрет Гогена, присланный из Понт-Авена по настоянию Ван Гога.
Последний изобразил себя, как явствует из комментария, сопровождавшего картину, «импрессионистом наших дней», этаким «Жаном Вальжаном, преследуемым обществом и поставленным вне закона». Эта точка зрения, близкая Ван Гогу парижского периода, в данный момент показалась ему слишком пессимистической, и он вступает со своим другом в своеобразную полемику средствами живописи.«…Я написал ему, что, поскольку и мне позволено преувеличить свою личность на портрете, я попытаюсь изобразить на нем не себя, а импрессиониста вообще. Я задумал эту вещь как образ некоего бонзы, поклонника вечного Будды. Когда я сопоставляю замысел Гогена со своим, последний мне кажется столь же значительным, но менее безнадежным» (545, 413).
Он прибегает к своеобразному маскараду, надев на себя коричневую куртку с голубыми отворотами — одежду, отдаленно напоминающую одеяния буддийских монахов, а глаза стилизует «по-японски — чуть косо» (545, 414). Однако в лице нет ни тени буддийского самосозерцания, растворения в вечности. Напротив, художник подчеркивает драматическую напряженность внутреннего состояния; он вложил в эти косо поставленные глаза и сильные, судорожно сведенные скулы такую силу воли, такую целеустремленность, которые должны были, по-видимому, внушить Гогену веру в их общее дело. Эта волевая «маска» «импрессиониста вообще», этот «буддийский» маскарад, вызванные намерением «преувеличить» свою личность, то есть изобразить «не себя», а некую «программу», выдают с головой раздвоение и рефлексию, типичные для Ван Гога и говорящие скорее о его принадлежности к постромантикам, нежели к мудрецам и мастерам дзэн.
Арльская модификация его личности имеет отношение к тому явлению европейской культуры, которое глубоко вскрыл А. В. Михайлов: «Очевидно, что романтизм — это исчерпание религиозности, которая в романтизме является как бы единством и слитностью двух полюсов: трансцендентальной религии и безбожия… И притом романтизм имплицирует атеизм именно постольку, поскольку его религиозность преодолевает самое себя — углубляясь и возрастая в такой мере (а также приобретая оттенок эстетизма), что она превосходит всякие исторические формы религии, выхолащивается внутренне при предельной самонасыщенности — насыщенности именно самою собой» 78.
«Многобожие» Ван Гога безусловно «превосходит все исторические формы религии», а его вера в чистый цвет дает пример выхолащивания религиозности «при предельной самонасыщенности — насыщенности именно самою собой», приводящего к перенесению на искусство понятий и норм утраченной веры.
Все сказанное говорит о том, что любая попытка «привязать» Ван Гога к какой-то определенной школе, традиции, учению или направлению не может не оказаться несостоятельной, искажающей его противоречивую, динамичную и ни одним термином не определимую сущность. Его особенность именно в том, что он стоит вне и над направлениями и течениями художественной, литературной, философской и религиозной мысли, получая импульсы от самых противоположных и, казалось бы, несовместимых с точки зрения логики явлений культуры. Однако именно эта противоречивость Ван Гога, его раздвоенность и оказывается его плодотворной чертой, движущей силой его развития. Он словно перекресток, на котором скрещиваются и от которого затем расходятся самые разные направления и течения искусства и художественной мысли. И только это имеет отношение к тому, что можно было бы определить в нем, как главное: Ван Гога занимают прежде всего проблемы человеческого существования свободы, жизни, смерти, — которые он стремился понять и разрешить с помощью искусства 79, пытаясь раздвинуть границы живописи до такой безмерности (с точки зрения классических традиций), чтобы она была способна решать проблемы человека, не разрешимые ни наукой, ни религией, ни философией, ни социальным прогрессом.
Пожалуй, именно в этом пункте и начинается коренное расхождение между ним и Сезанном, имевшее такое значение для последующего развития искусства, пошедшего по двум, во многом противоположным путям. Сезанна потому и рассматривают как последнего классика, что он культивировал живопись, как самозамкнутую внутри себя и своих проблем форму человеческой деятельности, противостоящей всему, что не есть она и ее предмет. Как известно, такое самозамыкание внутри живописи способствовало в этот исторический период ее обогащению. Ведь именно в связи с его всепоглощающим интересом к сущностным проявлениям гармонии природы он оказался перед неисчерпаемыми творческими задачами, которые продолжали питать проблематику искусства XX века. И каковы бы ни были трудности и муки Сезанна, связанные с неисчерпаемостью этих задач, именно их неисчерпаемость обещала ему длинную плодотворную жизнь в искусстве. Собственно, главной или скорее сокровенной целью Ван Гога было даже не овладение искусством живописи и рисунка, а творческое развитие своей личности, стремление которой к обретению своего «я» и раскрытия его «другому» привело его на путь художника-новатора, перевернувшего целый мир устоявшихся художественных представлений. Считая искренне себя всего лишь «учеником», «второразрядным» явлением, он последовательно выступал против рационалистического академизма, против оптически-чувственного эмпиризма импрессионистов — против любой опосредованной системы, основана ли она на культе разума и совершенства или прекрасного и природы. Ценность человеческой личности, со всей исключительностью ее существования, мышления, ее мира, которая раскрывается непосредственно, помимо законов и правил, — вот что утверждает Ван Гог. В его обращении к безличностному буддийскому миру с этой точки зрения заключался глубокий парадокс и противоречие, которое он изживает, отказавшись в последующий период своего творчества от арльской программы, хотя и продолжая употреблять в качестве символико-декоративных элементов приемы дальневосточного искусства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: