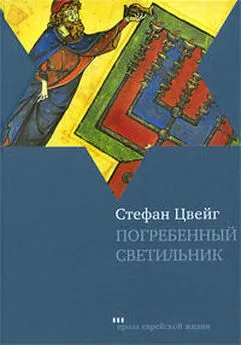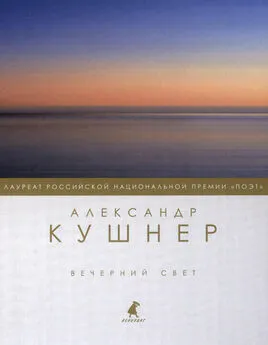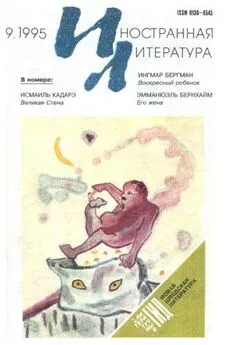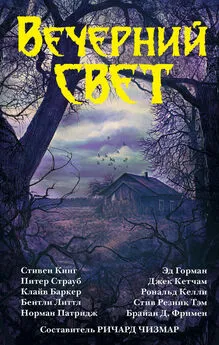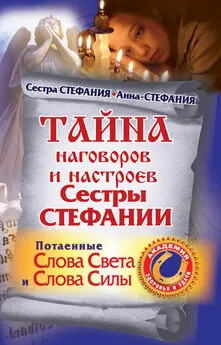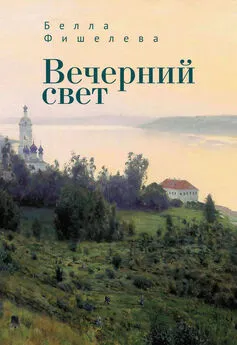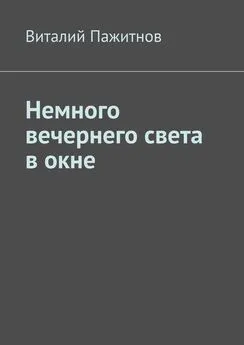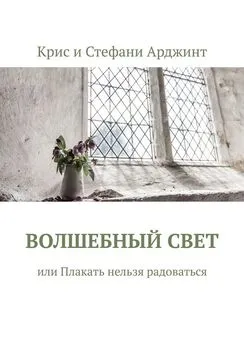Стефан Хермлин - Вечерний свет
- Название:Вечерний свет
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стефан Хермлин - Вечерний свет краткое содержание
Вечерний свет - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Инцидент, в результате которого возникла такая книга, как «Последние дни человечества», уникален. Это произведение, возникавшее посреди кровожадного гула, среди призывов к обороне и воплей о проклятых ростовщиках, начатое в Вене во время первой мировой войны и терпеливо доведенное до конца, эта пьеса для марсианского театра, как называет ее Краус, объемом в восемьсот страниц, эта оперетта, источающая ужасы, собравшая в себе лемуров и чудищ, палачей и жертв, — все это продукт одного человека, который, находя опору лишь в самом себе, ни на минуту не поддался на приманки империалистической милитаристской пропаганды. Как ни странно, предпосылки этой, вероятно, самой страшной книги нашего столетия проистекают не столько из того факта, что Краус принадлежал к крохотному меньшинству, уже 1 августа 1914 года осознавшему преступный характер войны, но гораздо более из того, что он был изолирован от этого меньшинства. Он не слыхал ни о большевиках, ни о Либкнехте. У него не было контакта ни с Барбюсом, ни с Ролланом, ни со Стефаном Цвейгом или Леонгардом Франком, то есть с теми европейскими писателями, которые на фронте или в швейцарском изгнании уже работали над первыми пацифистскими манифестами. Безусловно, Краус никогда не понимал истинной социальной подоплеки войны, безусловно также и то, что вторичные факторы вытеснили из его поля зрения факторы первостепенные, и однако, никакие его просвещенные коллеги, ни в то время, ни после, не создали подобного поэтического соответствия глубочайшему ленинскому анализу эпохи и взглядам авторов «Писем Спартака», а он создал, и это заставляет задуматься о взаимоотношении индивидуального сознания и поэтического отображения состояния общества. Поводом для раздумья могут послужить как раз «Последние дни человечества» и, конечно же, те поэтические принципы, из которых исходит Краус. В основу здесь положена точная фиксация, процитированная фраза, которая сначала разоблачает своего создателя, а потом заступает на его место. Посреди патриотического неистовства, в то время как войска маршируют по Рингштрассе на фронт, некий пьянчуга со своей скамьи ораторствует перед ликующей толпой: «Мы идем на оброни… нет, обремни… нет, ограбнительную войну…» И он призывает земляков восстать из пепла «как фаланг» и сомкнуть свои ряды в «единый феникс». То, что пьяный язык не в состоянии выговорить навязшее в зубах слово «оборонительная», что только алкоголь позволяет назвать войну ее настоящим именем, становится художественным открытием Карла Крауса.
О мщенье речь,
и в этом речь права;
пусть тем отмстит,
кто говорит слова!
Речь, синоним природы, творения, истинного предназначения человека, поднимает бунт, она превращает своих носителей в мифологические персонажи, в чудовища и жертвы, сталкивает банальное мгновение с вечностью, и не требуется даже того обстоятельства, что Ворчун, олицетворяющий автора, произносит заключительные слова Горацио, чтобы понять, насколько мир Карла Крауса близок миру Шекспира.
Заглавие этой драмы чудовищ «Последние дни человечества» можно распространить на все его творчество. «Гибель мира в результате черной магии» называется другая книга Крауса; здесь назван по имени его главный враг: пресса, чью разрушительную силу ни один еще автор не изображал с таким потрясенным и потрясающим красноречием — ни Бальзак, ни Кьёркегор. «Страшный суд» — название третьей книги, в которой, как и в его большой драме, речь идет о войне. Суть всех этих произведений обнимается заголовком «Последний срок»: они нацелены на мобилизацию духа, но здесь уже брезжит надежда на спасение, хотя речь идет всего лишь о том, что сатирик, как выразился однажды Краус, организует «бегство духа от человечества». Поводы для создания этих произведений часто ничтожны.
«Мелкое событие из местной хроники, — говорит Леопольд Лиглер, — может так задеть Крауса, что он ждет уже наступления конца света, ибо в единичном случае он узнает те самые силы, которые терзают сердце мира».
Краус не дожил до Освенцима и Хиросимы, но он их предвидел, предчувствовал, предвоплотил в муке каждого отдельного человека, которая вызывала его возмущение, его протестующие возгласы, его слезы и скрежещущую издевку. За сорок лет до того, как заговорили о «преодолении прошлого», он написал: «Никогда ничто не будет для меня минувшим!» И в то же время удивительно, с каким благоговением этот знаток и продолжатель большой литературы, который столь часто и столь сокрушительно демонстрировал слабости своих знаменитых современников, относится к самой простой речи, когда в ней слышен голос человека. В ноябре 1917 года Краус цитирует текст открытки, где ему сообщалось о смерти друга:
«Многоуважаемый господин!
Дозволь мне написать тебе дрожащей рукой, что господин мой лейтенант Яновиц 4 ноября изнемог от своих ран и испустил дух. Несмотря на мои просьбы, мне отказано в разрешении лично вручить Вам его вещи.
Я пролил много слез за своего господина. Мир его памяти. Выражаю искреннее соболезнование. Так судил господь. А я возвращаюсь в роту.
Его верный слуга Иозеф Гройнц»Краус пишет об этом человеческом документе:
«Пусть сыщется кара для всей военной поэзии этих четырех лет. Да обратится она в ничто перед этой возвышенной героической поэмой…»
Здесь Краус задает масштаб — он противопоставляет факт убийства и жалобу неизвестного простого человека той постыдной поэзии, которую он ненавидел и авторов которой всегда называл по имени, даже если их звали Гофмансталь, Рихард Демель {154} 154 Рихард Демель (1863—1920) — немецкий писатель, творчество которого развивалось под влиянием натурализма и декаданса.
или Альфред Керр.
Призыв к духовной обороне, метания между языковым бессилием и мобилизующей языковой мощью достигли своей вершины в последнем творении Крауса «Третья Вальпургиева ночь», которое вышло в свет лишь после его смерти и краха фашизма. Оно начинается знаменитой фразой: «О Гитлере мне сказать нечего», открывающей пространный — на триста страниц! — обвинительный приговор национал-социализму. Краус не опубликовал книгу, чтобы не подвергнуть опасности людей, живших под игом нацизма. В этом произведении речь, между прочим, идет и о литературе, о той литературе, которую не спасли Готфрид Бенн и Биндинг, чья апологетическая позиция подтверждается цитатами и подвергается осуждению. Тот факт, что Бенн после этой уничтожающей критики вновь сумел в условиях реставрации выдвинуться в большие поэты, — не вина Карла Крауса, это вина общества, которое всегда было противником Крауса и чье разложение, духовное и этическое, отражается в распаде языка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: