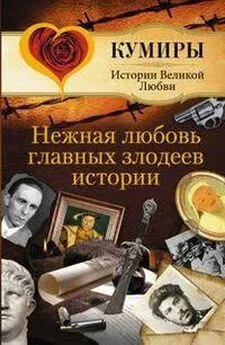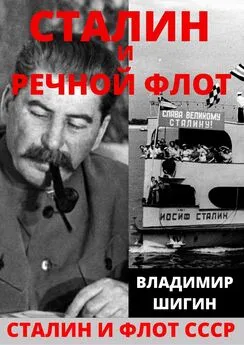Андрей Шляхов - Татьяна Пельтцер. Главная бабушка Советского Союза
- Название:Татьяна Пельтцер. Главная бабушка Советского Союза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство АСТ
- Год:2017
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-101404-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Шляхов - Татьяна Пельтцер. Главная бабушка Советского Союза краткое содержание
Слава пришла к ней поздно, на пороге пятидесятилетия. Но ведь лучше поздно, чем никогда, верно? Помимо актерского таланта Татьяна Пельтцер обладала большой житейской мудростью. Она сумела сделать невероятное – не спасовала перед безжалостным временем, а обратила свой возраст себе на пользу. Это мало кому удается.
Судьба великой актрисы очень интересна. Начав актерскую карьеру в детском возрасте, еще до революции, Татьяна Пельтцер дважды пыталась порвать со сценой, но оба раза возвращалась, потому что театр был ее жизнью. Будучи подлинно театральной актрисой, она прославилась не на сцене, а на экране. Мало кто из актеров может похвастаться таким количеством ролей и далеко не каждого актера помнят спустя десятилетия после его ухода.
А знаете ли вы, что Татьяна Пельтцер могла бы стать советской разведчицей? И возможно не она бы тогда играла в кино, а про нее саму снимали бы фильмы.
В жизни Татьяны Пельцер, особенно в первое половине ее, было много белых пятен. Андрей Шляхов более трех лет собирал материал для книги о своей любимой актрисе для того, чтобы написать столь подробную биографию, со страниц которой на нас смотрит живая Татьяна Ивановна.
Татьяна Пельтцер. Главная бабушка Советского Союза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Идею с переездом одобрили все члены семьи. Евгения Сергеевна постоянно тосковала по Москве, где они (спасибо господину Коршу!) жили лучше, чем в Харькове. Татьяна мечтала учиться у Станиславского. Восьмилетнего Сашу завораживала сама мысль о переезде в другой город. Собирать вещи, ехать на поезде, обустраиваться на новом месте – это же так увлекательно!
Скорый в мечтах Иван Романович расписывал перспективы, от которых дух захватывало. Тане и хотелось ехать, и, что называется, кололось. В Харькове она имела возможность выходить на сцену, а что будет в Москве? Где она, двенадцатилетняя, пускай и выглядевшая на пару лет старше, сможет играть? И возьмут ли ее в студию при Художественном театре? Какая будет в Москве гимназия? Какие там девочки? Может, все сплошь вредины и задаваки, как в Первой Мариинской гимназии?
Как там сейчас живется в Москве?
И как вообще все сложится?
– Ты что нос повесила, друг мой? – ободрял отец. – Актер должен быть легким на ногу и не должен бояться перемен. Что Бог ни делает, все к лучшему! Увидишь, что все будет хорошо.
– Лучше бы твой папаша вместо своего кинематографа попросился бы обратно к Коршу, – говорила Тане практичная мать. – У Корша – театр, а не забава. Хотя кто его знает, вроде бы обещали платить до семи рублей в день. От тридцати отнять четыре будет двадцать шесть. Умножаем на семь – получаем сто восемьдесят два рубля. Два отбросим для ровного счета, пусть будет сто восемьдесят. Неплохо, совсем неплохо, хотя и не очень хорошо. В Москве жизнь дорогая…
Мать не делала разницы между съемочными и обычными днями и не знала, что по семь рублей за съемочный день платят далеко не всем актерам. Муж назвал ей поденную ставку с оговоркой «если все будет хорошо», но она пропустила эти слова мимо ушей.
Сам Иван Романович в смысле заработка не столько рассчитывал на незнакомый ему кинематограф, сколько на другого своего старого знакомого – Петра Петровича Струйского, у которого в Москве в Замоскворечье был театр миниатюр. Но в отличие от Маликова, который в своих письмах твердо обещал Ивану Романовичу работу в киноателье «Русь», Струйский юлил, обнадеживал, не давая прямого ответа и не оглашая условий. Поэтому Иван Романович не рассказывал жене о своих планах, связанных с театром Струйского, чтобы избежать упреков, неизбежных в том случае, если дело сорвется. К Струйскому он надеялся пристроить и Татьяну. Не заработка ради, а просто для того, чтобы девочка не тосковала по сцене и совершенствовала свой талант. Но и дочь ему тоже не хотелось обнадеживать понапрасну, вот и скрытничал.
По расчетам Ивана Романовича выходило, что если к полной занятости у Струйского добавить гонорары за съемки в двух или в трех картинах в месяц, то бедствовать его семье в Москве не придется. Пока идет война, новых прожектов лучше не затевать. А вот когда она закончится…
Кто тогда мог знать, что Первая мировая война плавно перейдет в Гражданскую и на одной шестой части тверди земной будет твориться черт знает что?
Глава пятая
Отталкивающее очарование Великого немого, или «Пельтцер с перцем»
Сюжеты комедий и комических фильмов были в большинстве случаев незамысловаты. Все они строились на глупых положениях или на контрастах. Герои комических гнались друг за другом, падали в речку или в грязную лужу; жена избивала мужа, приходившего домой пьяным; героя обливали водой при проходах его по улицам и садам; муж (что было обычным сюжетом) ссорился с тёщей, ссора оканчивалась, как всегда, дракой и победой тёщи. Известный американский комик Поксон, весивший около восьми пудов, почти всегда играл вместе с очень худой актрисой, изображавшей его жену. Такой контраст вызывал гомерический хохот зрителей при первом же появлении актеров на экране…
Форестье Луи, «Великий немой. Воспоминания кинооператора»Кинокартины в то время снимали быстро, за несколько дней. Ставили в павильоне декорацию, отчеркивали мелом на полу линию, за которую актерам нельзя было выходить, режиссер зачитывал актерам отрывок из сценария, разочек-другой наскоро репетировали сцену и снимали ее. Переснимали только в случае явного брака. Сняв одну сцену, переходили к другой и так до тех пор, пока декорация не была полностью «отработана». Тогда ставили другую и весь процесс повторялся. Ни о каком вхождении в образ и речи быть не могло. Актеры снимались, не имея никакого представления о сценарии, который им зачитывал режиссер. Отснятые куски-сцены склеивали по порядку действия, перемежая их надписями, и картина считалась готовой к прокату. О монтаже речи не шло, только о простой склейке.
Любое новое, еще не обросшее сводом правил и законов дело неизбежно привлекает к себе чудаков, которые начинают делать все по-своему. Был в начале века довольно известный режиссер Василий Гончаров, бывший железнодорожный служащий со склонностью к сочинительству. Гончаров специализировался на исторических постановках и инсценировках из русского быта. Однажды он предложил одному из пионеров-основоположников российского кинематографа Александру Ханжонкову поставить картину на русскую тему. Ханжонков согласился. Далее предоставим слово самому Александру Алексеевичу: «Ранним зимним утром мы приехали в Народный дом. Все участвующие были налицо. Чувствовалось, что они горят желанием приступить к делу! И вот актеры одеты в чудные боярские костюмы, загримированы, можно начать генеральную репетицию. Я это и предложил сделать Гончарову, но к своему ужасу увидел нечто совершенно невероятное: актеры, которыми я неоднократно любовался в исполнении ими самых разнообразных ролей на сцене, здесь вдруг превратились в каких-то марионеток, подергиваемых ниточками слишком быстрой неумелой рукой. Так например, в «Русской свадьбе» стоят с иконами в руках почтенные родители в одном углу комнаты, а новобрачные в другом, и по окрику режиссера «Благославляйтесь!» молодые срываются с места, почти бегом приближаются к родителям и падают им в ноги, затем вскакивают, как попавшие на горячую плиту, и мчатся обратно в свой угол! Эта молодая пара объяснила мне, что так их обучал режиссер с секундомером в руке. О, лучше бы он не обучал! Немало прошло времени, пока удалось их всех отучить от внушенной им поспешности и убедить, что для экрана игра бывает только тогда хороша, когда движения действующих лиц вполне естественны» [22].
Разок побывав на съемках, куда ее с разрешения режиссера провел отец, Таня ужаснулась – ну разве это искусство? У Синельникова подолгу не репетировали, но все же ре-пе-ти-ро-ва-ли! Входили в образ, отрабатывали то, что сразу не получалось, «сыгрывались»… А тут! Раз-два-три – и переходим к следующей сцене. Героиня только что умерла от рук коварного убийцы, а в следующей сцене разыгрывается их знакомство! Попробовал бы кто у Синельникова во время репетиций переставить сцены местами! Получил бы с двух сторон – и от самого Николая Николаевича, и от актеров за срыв репетиции. «Нет, кинематограф – это не искусство!» – думала Таня.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: