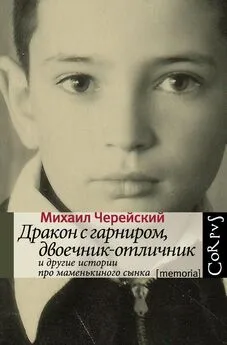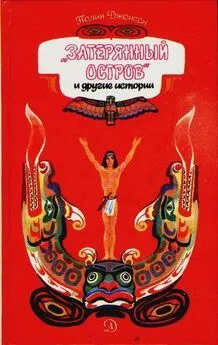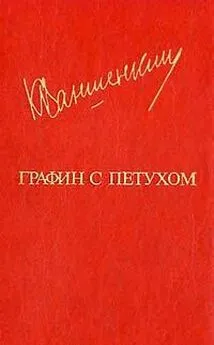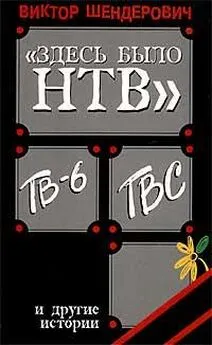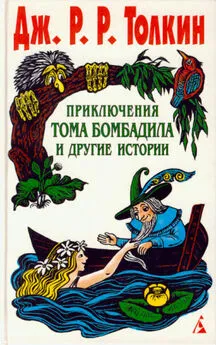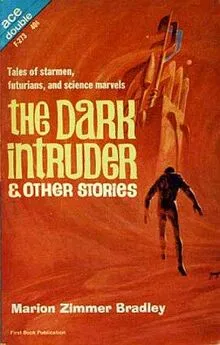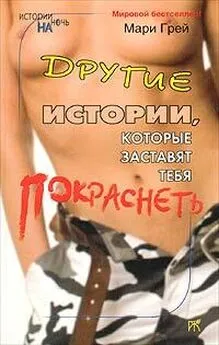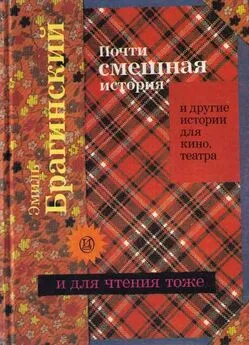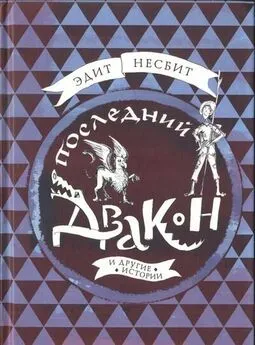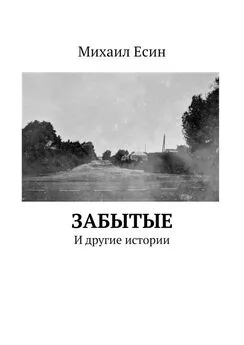Михаил Черейский - Дракон с гарниром, двоечник-отличник и другие истории про маменькиного сынка
- Название:Дракон с гарниром, двоечник-отличник и другие истории про маменькиного сынка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель: CORPUS
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-40135-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Черейский - Дракон с гарниром, двоечник-отличник и другие истории про маменькиного сынка краткое содержание
Дракон с гарниром, двоечник-отличник и другие истории про маменькиного сынка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Начиная с конца пятидесятых годов в Ленинград стали приезжать на два выходных дня и на более длительное время туристы из Финляндии. Основным двигателем этого специфического туризма была страшная дороговизна водки и другого спиртного в Финляндии — а суровый финн выпить вовсе не дурак, благо и климат располагает. Советские цены на водку и в особенности возможность выменять на нее поношенные рубашки и прочую одежду превращали лежащий всего в нескольких часах езды Ленинград в форменную туристскую мекку для населения Хельсинки и юга Финляндии. Архитектурные красоты и культурные сокровища бывшей столицы империи интересовали их гораздо меньше и воспринимались большинством туристов как неизбежная нагрузка — вроде перловой крупы в советских продуктовых наборах с палкой салями и банкой зеленого горошка. Вообще финны с гораздо большей охотой ездили бы за водкой через залив в еще более близкий Таллин, но туда их не пускали до самой Олимпиады-80, не без основания опасаясь растлевающего буржуазного влияния на родственных по языку и культуре эстонцев.
Была и еще одна причина для поездок финнов в Ленинград: ностальгия по местам, из которых они сами или их родители были изгнаны после Зимней войны 1939/40 года и «войны-продолжения» 1941–1944 годов. Привязанность к земле и дому — одна из коренных черт финского национального характера, и вынужденные переселенцы в массе своей тяжело переживали невозможность вернуться к родным очагам или их развалинам или хотя бы навестить их. Ведь могилы предков никто не переносил вглубь Финляндии… Кратковременная поездка в Ленинград давала возможность бывшим жителям Виипури, Терийоки и других попутных мест хотя бы из окна автобуса посмотреть на малую родину. В Выборге и Зеленогорске автобусы делали остановки на час-два, и некоторые финны даже пытались на такси съездить за это время к своим бывшим домам. Но местным таксистам было строго-настрого запрещено брать таких пассажиров, и они разочарованно топтались возле своих автобусов с надписью Matka («туристский»), а потом нехотя тянулись обедать в интуристовский ресторан.
Вот тут-то тепленьких, еще не разобравшихся в обстановке и конъюнктуре финнов и поджидали бомбилы. Борис Гребенщиков в трагедии «В объятиях джинсни» обессмертил ленинградских фарцовщиков, бомбивших турмалайские басы — то есть скупавших все подряд у пассажиров финских автобусов. Бомбилы и их малолетние агенты начинали бомбежку еще на подступах к Ленинграду, во время упомянутых остановок. В Зеленогорске возле автобусов крутились вперемежку с настоящими бомбилами местные мальчишки и подростки, не имевшие отношения к организованной фарцовке, а просто клянчившие у туристов пачку жевательной резинки или шариковую ручку — для собственного употребления или для последующего натурального обмена. Каждый из них знал главное слово финского языка — «пурукуми», то есть жвачка. Лексикон более продвинутых и рисковых ребят включал дополнительные термины: «пайта» (рубашка), «кенки» (туфли) и др. Выпрашивать вдармовую считалось недостойным, да и наблюдавшим издали милиционерам и дружинникам это могло не понравиться. Поэтому туристам предлагался честный обмен на дешевейшие сувениры — трехкопеечные открытки с видами Ленинграда или значки по десять копеек. По неписаному правилу запрещалось предлагать на обмен пионерские и комсомольские значки с изображением Ленина, а также звездочки с военных пилоток и фуражек. По-видимому, ребята (или те, кто держал их под наблюдением) боялись, что финские буржуины могут надругаться над святыми для советского человека символами.
Мне тоже очень хотелось поговорить с иностранцами, но заниматься скрытым попрошайничеством было противно, да и жвачка меня нисколько не привлекала. Попробовал пару раз и ничего хорошего в ней не нашел. А шариковыми ручками нам все равно в школе писать запрещали.
Поэтому я, увидев финский автобус на площадке перед зданием школы — там они всегда останавливались, — иногда стоял в сторонке и издали наблюдал за контактами между советской и западной цивилизациями. Как-то рядом со мной трое местных ребят обменивались добычей и заспорили о пачке жвачки — какого она вкуса и где изготовлена, от этого зависела ее цена при обмене. Я услышал слово «о-ран-ге», понял, что написано «Orange», и говорю им: да апельсиновая она. Тогда они продемонстрировали мне пачку и узнали, что она изготовлена в Дании. Переглянулись — и через пять минут притащили целую кучу жвачек, ручек и пакетиков с леденцами: давай-ка переводи. Ну, мне не жалко, перевел что сумел — и был вознагражден ярко-синей шариковой ручкой с какой-то заковыристой финской надписью. Так я заработал свой первый в жизни гонорар за перевод с английского. Много их потом еще было…
Разноцветные, поблескивающие лаком и хромом финские автобусы производили на меня, как и на многих других ленинградских детей и взрослых, сильнейшее впечатление. А их пассажиры виделись нам почти инопланетянами — очень похожими на людей, но выглядящими и ведущими себя не так, как мы. Дело было не только в их светлой и яркой одежде, красивых солнечных очках на все лицо и сверкающих фото— и кинокамерах. Все они улыбались, громко разговаривали между собой на непонятном языке, озирались по сторонам с доброжелательным любопытством и казались весьма довольными собой и своей жизнью. Особенно удивительно выглядели пожилые финские женщины, которых я невольно сравнивал со своей бабушкой. Она, в сущности не старая еще женщина, ходила шаркающей старушечьей походкой, одевалась в какие-то черные и серые бесформенные платья, уже при покупке имевшие поношенный вид, а уход за своим лицом ограничивала пудрой «Красная Москва». Ее финские сверстницы буквально выпархивали из своего автобуса в светло-голубых и розовых брючках, а их седые кудряшки, белозубые улыбки и румяные щечки излучали оптимизм и намерение еще много лет наслаждаться жизнью. Окружавшие нас советские люди имели такой веселый и счастливый вид только по каким-то особым случаям, вроде первомайской демонстрации, или на фотографиях в газете «Правда».
При взгляде на раскованных, уверенных в себе и держащихся с непринужденным достоинством северных соседей невольно приходило в голову название, услышанное в эрмитажных лекциях по средневековой истории: «свободные граждане». Я стоял у входа в зеленогорский парк культуры, облокотясь на руль потрепанного велосипеда «Кама», смотрел на улыбающихся гостей из близкой, но недоступной страны и думал о том, как бы мне вырасти и тоже стать свободным гражданином. Не в одной же Финляндии они должны быть — ведь мир такой большой, а жизнь только начинается.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: