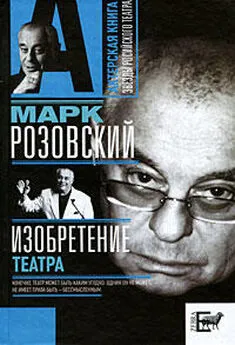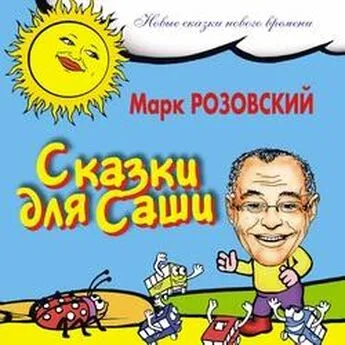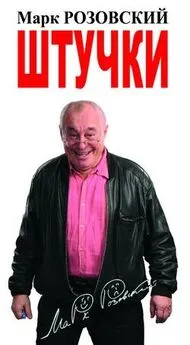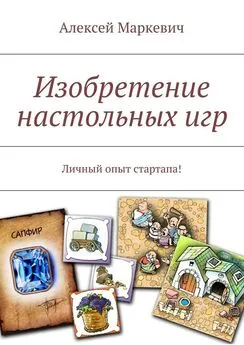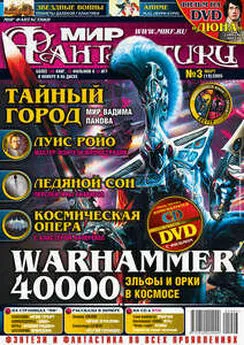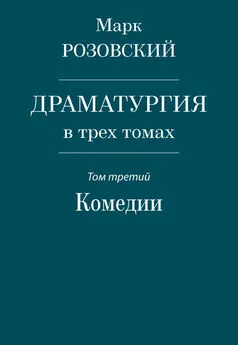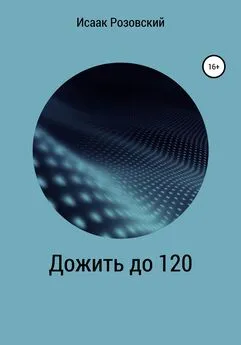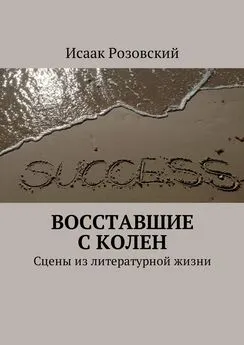Марк Розовский - Изобретение театра
- Название:Изобретение театра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аудиокнига»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-064233-5, 978-5-94663-783-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Розовский - Изобретение театра краткое содержание
Изобретение театра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пространство сцены разделено здесь на так называемый Дом Эраста и Хижину Лизы. Во время своей песни об Эрасте Лиза может войти в его Дом, как бы случайно оказаться в мире, где хозяин – дворянин и куда Лиза в бытовом пространстве спектакля, то есть в реальности – никогда не войдет.
В 1985 году в той же студии я поставил спектакль – «Всегда ты будешь». Он посвящен 40-летию Победы над фашистской Германией и сделан по мотивам дневниковых записей Нины Костериной, московской школьницы, а позднее студентки, добровольно ушедшей на фронт, в партизанский отряд и там погибшей…
Меня часто спрашивают, зачем на авансцене этого спектакля лежит стопка настоящих кирпичей, ведь они впрямую в спектакле практически «не играют»… Я не могу доподлинно объяснить – почему я их туда положил. Но интуитивно я чувствовал, что мне это надо. Когда я это сделал, многое на репетициях легче пошло… Появились контрастная игра несовпадающих фактур (условного оформления, паркета и лежащих на нем настоящих кирпичей) и тема разрушения, развалин войны. Натуралистическая несовпадаемость давала на сцене необходимое тревожное настроение. А образ, возникая, дополнялся подлинными гимнастерками фронтовиков, достаточно произвольно развешанными на стульях… Может быть, это выглядит слишком простодушно. Но мне кажется, вот этим простодушием сегодняшний театр как раз и отличается от театра 60-х годов, когда символ был более глубокомысленным и даже философским…
Сегодня, я бы сказал, символ должно лишать пафоса, уводить его от излишних нагрузок, утяжеляющих смысл. Изыск и изящество хорошо бы научиться находить в самых простых, но неожиданных решениях…
В. К.: В этом плане интересно, видимо, обратиться к тщательному опыту, весьма популярному в 70-е годы. Я имею в виду спектакли, которые ставятся и играются в естественных условиях, в пространстве, которое дарует нам природа, являющаяся здесь своеобразным сценографом. Такой спектакль, где режиссер лишь осваивает заданные ему природой вещественно-предметные предложения, становится своего рода хэппенингом. Что Вы думаете об этом жанре?
М. Р.: Приемы хэппенинга, как правило, получают дополнительную силу от случайностей, возникших в процессе игры чисто импровизационно. Радость, которую нам, зрителям, доставляют эти случайности, поистине огромна. Нам начинает казаться, что мы свидетели уникального, неповторимого, несусветного… Режиссер «планирует» возникновение этих случайностей, но главное не в этом. Главное – рассчитать силу и смысл воздействия случайности заранее, на стадии замысла или репетиций, чтобы образ был выстроен независимо ни от чего, а прочтение образа не оказалось своевольным. Художественная воля постановщика и художника проявляется без «отсебятины» природы, тайна появления которой должна быть не только угадана, но и организована творцами зрелища.
Конечно, профессионализм постановочного решения часто выражается в потребительском отношении к пространству – к примеру, интерьер старинных особняков более подходит к исполнению «Бедной Лизы», нежели, скажем, гараж. Однако тут-то самодовлеющая театральная идея и может раскрыться неожиданно: тавтологичность стиля и образа постановки с интерьером не всегда обеспечивает абсолютную чистоту и правоту театрального решения. Бывают случаи, когда именно парадоксальное разведение и поляризация категорий формы и содержания дают произведению совершенно свежий взгляд, не говоря о новом прочтении. Риск тут безусловно большой, ибо любая театральная концепция требует объяснения, почему тот или иной элемент постановки таков, почему так, а не иначе. Спонтанные решения должны иметь причину, в противном случае мы будем иметь дело с шарлатанством, прикрываемым благородными идеями художественного эксперимента.
Когда мы беремся осознать пространство в контексте пьесы, происходит следующее: то, что было зафиксировано в словесной форме – из диалогов и ремарок, – превращается в то, что есть – в акт театрального действия. Это значит, что Пространство соединимо со Временем, но не адекватно ему. Шекспир возникает каждый раз в новой для себя интерпретации, будучи погруженным в свое время, и вместе с тем волей моей – постановщика – и усилиями актеров переносится в наше сегодня. Постановка спектакля и есть то самое чудо, которое дает эффект смещения человека во времени и пространстве. Условность игры утверждается в безусловном существовании не существующего в новом для него историческом времени и географическом пространстве. Разве это не чудо? Разве это можно понять до конца?!
В. К.: Марк Григорьевич, пришло время поговорить о студии, о студийности, в условиях которой возможны любые эксперименты. Ваш опыт уникально сочетает работу в студийных и в сугубо профессиональных (я бы сказал – академических) условиях. Вы уже обращались к опыту работы очень популярного сегодня театра-студии «У Никитских ворот», открывшейся под Вашим руководством 27 марта 1983 года. Есть ли, с Вашей точки зрения, принципиальная разница в работе сценографа на студийной и профессиональной сцене?
М. Р.: Мне кажется, что теоретически, говоря в общем плане, отличия никакого нет. Законы, которым следует художник в интерпретации произведений, получающих сценическое воплощение, – всеобщи. Вместе с тем в практике нельзя не признать специфически студийного подхода.
Какой-либо пышный, громоздкий театр студии противопоказан, она исповедует так называемый «бедный театр». Но как ни странно, именно это придает студийным спектаклям свежесть и новизну зрительского восприятия. Студийный подвал, крохотная неудобная сцена по-своему обаятельны, это та среда, которая сама по себе несет театральную атмосферу, уют, взращенный на неустроенности и беспорядке. Богема может и раздражать, но иногда она бывает божественна.
В. К.: Логика развития Ваших режиссерских идей привела Вас, кажется, к попыткам создать своего рода «театр из ничего», в эстетике которого выдержана была, к примеру, читка-игра-импровизация Вашей пьесы «Высокий» (по стихам В. Маяковского). Приход к такому театру – это для Вас случайность или закономерность?
М. Р.: Не знаю… Однако я поймал себя на том, что сегодня мне гораздо интереснее создавать театр в самом буквальном смысле «из ничего», то есть из внетеатральных средств. Создавать театр в любом, даже несценичном пространстве, из подручных – то есть действительно случайно оказавшихся под рукой – средств. Мне кажется, тут может возникнуть театр нового типа, извлекаемый из жизни. В этом случае режиссер сам становится оформителем своего представления – его профессия как бы сливается с профессией сценографа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: