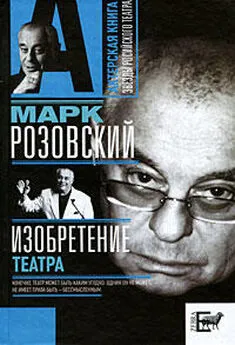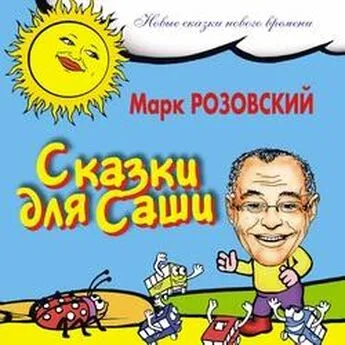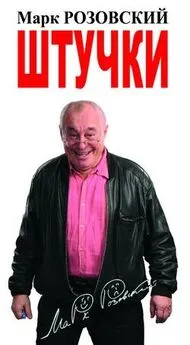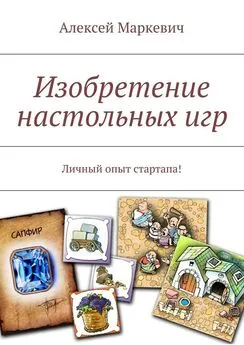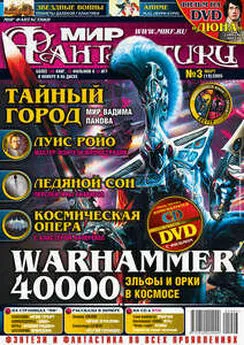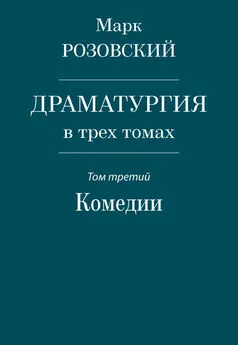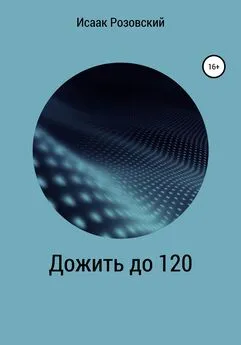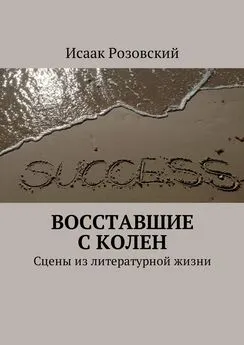Марк Розовский - Изобретение театра
- Название:Изобретение театра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аудиокнига»
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-064233-5, 978-5-94663-783-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Розовский - Изобретение театра краткое содержание
Изобретение театра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Есть так называемые «толстокожие» артисты. Их реакция – замедленна, они внутренне то и дело оказываются не готовы к принятию все новой и новой драматургической информации. Такой артист не мобилен и бездействен, он нарушает темпоритмы и фальшивит в изображении характера, так как может лишь «выборочно» реагировать. Информация прибывает, а перерабатывать ее он не успевает. Информация отскакивает от «толстой кожи» артиста, как от брони танка, неповоротливого и слепого. Быть беззащитным танк не умеет. Впрочем, «толстокожий» артист скорее похож на разбитую колымагу, которая движется по сельской дороге в гору и скатывается то и дело. Артист обязан воспитывать в себе быстроту реакции. В момент ожидания ответа он должен уметь сбросить с себя все защитные покровы, приобретенные в «закулисной» жизни, чтобы обнаженность содействовала возникновению острой чувствительности. Психофизическая сущность артиста должна быть приведена в состояние возвышенной наивности, трепетности, детскости. Хороший артист – всегда существо ранимое, нежное, сердечное.
Но если ожидание ответа характеризуется зависимостью внутренней жизни артиста от внешней среды, то следующий этап реакции – это отказ от этой зависимости. Артист, отстаивающий свое «я» в общей драматической ситуации пьесы, идет на встречный поиск реакции – у партнеров по спектаклю и у зрительного зала. Артисту, играющему роль, необходимо постоянное чувство, что его понимают.
Встречный поиск
Реакция движется. Роль не стоит на месте. То, что мы называем встречным поиском, конечно, выражается у артиста многообразно: в паузе, когда артист бросил на партнера мимолетный вопрошающий взгляд, или через мизансцену, в которой, скажем, один герой бросился навстречу другому, или – в самой яркой форме – при специальной подаче сильной, особенно остроумной реплики…
Артист со встречным поиском как бы настаивает на праве изображаемого им характера, при этом старается угадать, каково отношение окружающих к нему, к его персонажу. Об исполнении артиста, лишенного встречного поиска, специалисты частенько говорят: «Не справился с ролью. Роль у него провисла».
Вот именно. Избежать провисания можно лишь в том случае, если ведомый режиссером артист в действенном процессе реакции не оказывается отъединенным от происходящего на сцене, а сам ищет коммуникативной связи между тем, что он чувствует и понимает, и тем, что, по его мнению, чувствуют и понимают при этом другие, – как зрители, так и персонажи.
Художественная правда в игре артиста достигает вершины в момент такого гармонического понимания: под руководством режиссера артист как бы обретает власть над своим персонажем, он живет отныне уже не сообразно роли, которую ему поручили, говорит не по тексту, написанному за него драматургом, а свой текст, собственный! Зритель мгновенно отмечает похвалой такое исполнение. Он видит, что перед ним живой человек, реагирующий точно на то же самое, на что зритель – окажись на месте персонажа – тоже бы как-нибудь реагировал. Отелло обманут Яго, Городничий введен в заблуждение Хлестаковым – зритель отмечает про себя этот факт драматургии пьесы, но идет в театр не за тем, чтобы ему рассказали об этом факте, а за тем, чтобы ему это показали, продемонстрировали, изобразили. Вот почему после встречного поиска артист вынужденно (то есть независимо – хочет он того сам или не хочет) приходит в столкновение с посылом, который создал в его адрес другой артист, действующий также сообразно с авторским и режиссерским замыслом зрелища.
Столкновение, а затем – оценка
Столкновение – это логичное продолжение встречного поиска. Зрелище испытывает постоянную потребность во взаимоперекрестных столкновениях своих персонажей, но вся прелесть театра в том, что к этим столкновениям их приводят непосредственно артисты. Артист – господин своей души. От его психофизической сущности зависит сила столкновения, которая проявляется или явно, или очень утонченно, так сказать подсознательно. Режиссер разъясняет, что столкновение чувств и мыслей персонажей должно управляться артистами-партнерами – удар ощутим в равной степени обеими сторонами. В определенном смысле актерскую игру здесь можно уподобить музыке, состоящей, как известно, из нот. До поры до времени эти ноты разъединены и неустойчивы, но вот «произошло их столкновение, возникло срастание – и полилась мелодия. Артист, живущий в „реакции“, делает все, чтобы внутренне это срастание было оправдано сверхзадачей роли, чтобы бесконечно малые куски роли, стали взаимодействовать с общим психофизическим переживанием, явившимся результатом действия в спектакле.
Каждая деталь, таким образом, может попасть под удар – чтобы реакция была правильной, надо сделать смысловой акцент на столкновении.
Внутренне артист может каждый раз, ощутив столкновение, говорить себе: «Ах, черт возьми, а я ведь этого не знал! Я ведь этого не слышал!» Или: «Ну и ну!.. Вот так в положение я попал! Где же выход?» Или: «Почему он (партнер) говорит так, а не иначе?.. Что он хочет от меня?» Или: «Я ему сейчас покажу! Он у меня, сейчас заплачет!» Или: «Пусть!.. Пусть делает, что ему нужно. Я ему не поддамся!» Или: «До чего красиво говорит! Заслушаться можно!» Или: «О Боже, я не знаю, что делать, как поступить!.. Я запутался, но в принципе уверен, что прав!» Или: «Какая низость, – то, что он только что сказал! Но – не буду подавать вида, что я это заметил!» И т. д. и т. п. до бесконечности. Понятно, что «Я», от имени которого личность артиста дает сама себе сигналы, обеспечивающие внутреннюю жизнь в роли (они конечно, могут быть и совершенно другие и не столь просто сформулированы!), есть одновременно «Я» играемого персонажа. Аморфность, неопределенность формы актерского выражения будет преодолена и преодолевается всякий раз, когда искусство исполнения является результатом сближения внутренних задач и внешнего оправдания.
Тут речь идет об обязательности оценки как конечной стадии реакции.
Есть артисты, которые умеют «схватывать» партнера, а есть, которые не умеют. Разница их мастерства определяется умением производить оценки. Легковесная, импульсивная игра, то есть игра вне режиссерского задания, возможна, но она разрушает искусство. Оценка уравновешивает посыл и реакцию. После момента оценки артист должен на миг раскрепоститься, чтобы в следующий миг накопить, затем сосредоточиться и начать атаковать. Оценка – это локально (например, в пределах одной реплики или мизансцены) выраженное завершение процесса реакции, это стимул для нового посыла.
Оценка, производящая новый посыл, создает бесперебойность актерской игры, зрелище действия в результате усилий актера на глазах у зрителей приобретает целостность, хаос превращается в органичную и естественную систему. Если же говорить короче, театр режиссера получает форму в игре актера. Идейно-художественный смысл пьесы на коротком отрезке сценического времени преобразуется в идейно-художественный смысл данного спектакля.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: