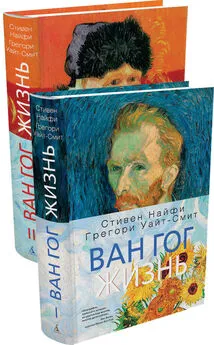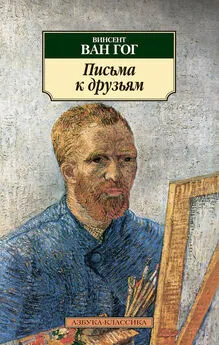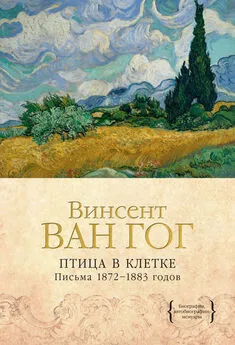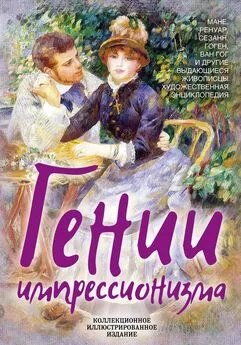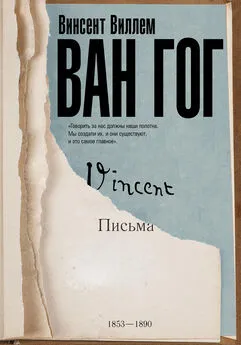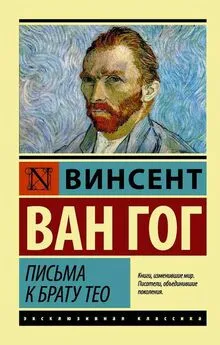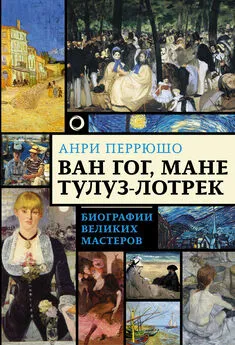Ван Гог. Письма
- Название:Ван Гог. Письма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ван Гог. Письма краткое содержание
Ван Гог. Письма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
известных нам только в виде мумий пли гранитных статуй.
1 Имеется в виду Всемирная парижская выставка
Но вернемся, однако, к нашей теме. Итак, египетские художники, люди верующие и
руководствовавшиеся в работе инстинктом и чувством, умели с помощью нескольких искусных
кривых и безошибочного ощущения пропорций передать неуловимое: доброту, бесконечное
терпение, мудрость, душевную ясность. Этим я еще раз хочу сказать, что, когда изображаемый
предмет гармонирует с манерой его изображения, в работе есть стиль и она становится
искусством.
Почему служанка с большой фрески Лейса, когда ее гравирует Бракмон, или маленький
«чтец» Мейссонье, когда его гравирует Жакемар, становятся самостоятельными
произведениями искусства? Да потому, что манера гравирования совпадает по стилю с
изображаемым предметом.
В массе работ художника всегда бывают такие, которые он прочувствовал особенно
глубоко, любит особенно сильно и хочет во что бы то ни стало сохранить. Когда я вижу
волнующую меня картину, я всегда невольно спрашиваю себя: «Где и в каком доме, в какой
комнате, в каком углу, у каких людей эта картина будет особенно хороша? Где она будет на
своем месте?»
Так, например, картинам Хальса, Рембрандта, Вермеера место только в старом
голландском доме.
С импрессионистами дело обстоит точно так же. Как не завершен интерьер, в котором
нет произведения искусства, так не хороша и картина, если она не сливается в одно целое с
окружением, если это окружение не соответствует доподлинно той эпохе, когда была создана
картина. Не знаю, достойны ли импрессионисты своего времени или – что вероятнее – еще
недостойны его. Короче говоря, что важнее ж значительнее – душа жилища или то, что о нем
сказано живописью? Думаю, что первое.
Читал объявление о предстоящей выставке импрессионистов. Упоминаются Гоген,
Бернар, Анкетен и другие имена.
Полагаю поэтому, что создалась еще одна секта, не более непогрешимая, чем уже
существующие. Не об этой ли выставке ты мне писал? Вот уж буря в стакане воды!
Здоровье у меня так себе, но благодаря работе я чувствую себя в убежище счастливее,
чем был бы на свободе. Если я пробуду здесь подольше, я привыкну к режиму, а значит,
впоследствии начну вести более упорядоченную жизнь и стану менее впечатлительным.
Это уже кое-что. К тому же у меня сейчас не хватило бы смелости снова начать жить
самостоятельно. Когда однажды, притом в сопровождении служителя, я вышел в деревню, мне
от одного лишь вида людей и вещей чуть не стало дурно.
На лоне же природы меня поддерживает сознание того, что я работаю.
Хочу этим сказать, что во мне сидит какая-то беспричинная необъяснимая тревога,
которая и довела меня до такого состояния.
Прекращая работу, я умираю от скуки и в то же время не испытываю никакого желания
вновь приняться за дело…
В этом месяце мне потребуется еще:
Серебряных белил 8 тюбиков
зеленого веронеза 6 «
ультрамарина 2 тюбика
кобальта 2 «
желтой охры 2 «
красной охры 1 тюбик
сиены натуральной 1 «
черной слоновой кости 1 «
Вот что любопытно: всякий раз, когда я пытаюсь взять себя в руки, разобраться в том,
почему я попал сюда, и внушить себе, что в моей неудаче нет ничего особенного, меня
охватывают глубокий ужас и отвращение, которые мешают мне спокойно думать. Правда, эти
чувства постепенно слабеют; тем не менее они доказывают, что у меня действительно что-то не
в порядке с головой: в таком беспричинном страхе и неумении совладать с собою, в самом деле,
есть нечто странное.
Как бы то ни было, можешь быть уверен, что я сделаю все от меня зависящее, чтобы
вновь стать деятельным и, может быть, даже полезным человеком – хотя бы в том смысле, что
я постараюсь писать картины лучше чем раньше.
Местный ландшафт многим напоминает Рейсдаля – не хватает только пахарей.
У нас, в Голландии, в любое время года видишь занятых работой мужчин, женщин,
детей и домашних животных; здесь же их раза в три меньше, да и трудятся они не так, как на
севере: тут пашут неловко, вяло, без подъема.
Впрочем, может быть, это у меня предвзятая идея – я ведь не здешний. Надеюсь, по
крайней мере, что это так. Но из-за подобной вялости все здесь кажется более холодным, чем я
представлял себе, читая «Тартарена»…
Если в том или ином месяце тебе будет материально затруднительно присылать мне
краски, холст и т. д., – не посылай: жизнь важнее, чем отвлеченные занятия искусством.
Прежде всего нужно, чтобы дома было весело и кипела жизнь. Сначала это, а живопись
уж потом.
Кстати, меня тянет снова начать работать более простыми красками, например охрами.
Разве так уж уродливы ван Гойен или Мишель, которые пишут скромным нейтральным
цветом, разбавляя краску большим количеством масла?
Мой подлесок с плющом совершенно готов, и мне очень хочется послать его тебе, как
только он окончательно просохнет и его можно будет скатать.
595 note 94 Note94 19 июня
Чувствую я себя, как ты сам понимаешь, неплохо: полгода абсолютной воздержанности
в еде, питье, курении, а в последнее время еще двухчасовые ванны дважды в неделю не могли
не подействовать на меня успокаивающе. Итак, все идет хорошо, а что касается работы, то она
отнюдь меня не утомляет, а, напротив, занимает и развлекает, что мне весьма необходимо.
Меня очень порадовало, что Исааксону понравились кое-какие из присланных мною
работ. Он и де Хаан – по-моему, верные друзья – качество, достаточно редкое в наши дни и
потому справедливо заслуживающее похвалы. Ты пишешь, что еще кому-то приглянулась моя
женщина в желтом и черном. Это не удивляет меня, хотя я думаю, что заслуга здесь
принадлежит самой модели, а не мне как художнику.
Я окончательно потерял надежду найти новые модели. Ах, если бы мне хоть иногда
попадались такие модели, как эта женщина или та, что позировала для «Колыбельной», я сумел
бы сделать кое-что получше!
Я думаю, что ты прав. Не следует показывать мои картины на выставке Гогена и других,
тем более что у меня есть уважительная причина воздержаться от участия, не обижая их, – по
крайней мере до тех пор, пока я не поправлюсь окончательно.
Я нисколько не сомневаюсь, что Гоген и Бернар обладают подлинными большими
достоинствами. Вполне понятно, что такие люди, как они, очень энергичные и молодые,
должны жить и пробиваться вперед. Не могут же они повернуть свои картины лицом к стене,
пока их кто-то там не признает и не покажет где-нибудь в официальном винегрете. Выставки в
кафе, конечно, производят сенсацию, которая, не отрицаю, может оказаться и дурного вкуса, но
у меня на совести такой же грех, так как я выставлялся в «Тамбурине» и на авеню Клиши, не
говоря уже о том, сколько беспокойства я причинил 81 добродетельному людоеду из славного
города Арля и великодушному их мэру.
Таким образом, если речь идет о сенсации, меня, во всяком случае, следует винить еще
больше, хоть я, ей-богу, к ней не стремился.
Юный Бернар, по-моему, уже написал несколько поразительных полотен; в них есть
какая-то мягкость, что-то неотъемлемо французское и на редкость искреннее.
Словом, ни он, ни Гоген не принадлежат к числу таких художников, о которых может
создаться впечатление, что они пытаются пробраться на Всемирную выставку через черный
ход.
Можешь быть в этом уверен. Вполне понятно, что они не могли усидеть на месте.
То, что импрессионистское движение оказалось не единым, доказывает лишь, что наши
единомышленники – гораздо менее бойцы, чем были, например, Делакруа и Курбе.
Я написал пейзаж с оливами и новый этюд звездного неба. Хотя я не видел последних
полотен Гогена и Бернара, я глубоко убежден, что два этюда, о которых я упомянул, сделаны в
том же духе.
Когда эти этюды, равно как этюд с плющом, побудут какое-то время перед твоими
глазами, ты получишь гораздо более полное, чем из моих писем, представление о вещах,
которые мы обсуждали с Гогеном и Бернаром и которые нас занимают. Это не возврат к
романтизму или религиозным идеям, нет. Тем не менее на пути Делакруа, то есть при помощи
цвета и рисунка более произвольного, чем иллюзорная точность, можно скорее, чем это
кажется, выразить сельскую природу, более чистую, нежели предместья и таверны Парижа.
Необходимо также пытаться изображать людей более светлых и чистых, чем те, каких
наблюдал Домье, хотя при этом, конечно, надо следовать рисунку Домье.
Возможно это или невозможно – другой вопрос; но мы все-таки полагаем, что природа
существует и за пределами Сент-Уэна.
Быть может, когда мы читаем Золя, нас волнует звук той же чистой французской речи,
которую мы, например, находим у Ренана.
Пусть «Chat Noir» и в особенности Форен рисуют нам женщин на свой – и
великолепный – манер; мы же будем изображать их на свой, менее парижский, хотя любим
Париж и его элегантность отнюдь не меньше. Мы просто попытаемся доказать, что существует
совершенно другой тип женщины.
Гоген, Бернар и я можем посвятить этому всю жизнь и ничего не добиться, но
побеждены мы все-таки не будем: мы, вероятно, рождены не для победы и не для поражения, а
просто для того, чтобы утешать искусством людей или подготовить такое искусство.
Исааксон и де Хаан тоже, вероятно, не добьются успеха, но и они почувствовали
необходимость доказать голландцам кое-что другое, а именно – что Рембрандт был великим
живописцем, а не иллюзионистом-фотографом…
Мне было бы чрезвычайно приятно иметь возможность иногда почитать здесь
Шекспира. Я знаю одно его полное издание стоимостью в шиллинг – «Dicks shilling
Shakespeare». Вообще изданий Шекспира много, и я думаю, что дешевые не менее полны, чем
дорогие. Во всяком случае, я хочу лишь такое, которое обойдется не дороже, чем в три франка.
Спрячь подальше то из присланного, что чересчур уж плохо, тебе это не нужно, а мне
оно попозже все-таки пригодится, как напоминание о виденном. То же, что есть у меня
хорошего, будет выглядеть тем лучше, чем меньшим количеством полотей оно будет
представлено.
Остальное сунь в картонную папку, проложив старыми газетами, – большего эти этюды
не заслуживают. Посылаю тебе рулон рисунков…
Рисунки: лечебница в Арле, плакучая ива и трава, поля и оливы – составляют
продолжение серии видов с Монмажура. Остальные – наброски, сделанные наспех в саду. С
Шекспиром не торопись: если не найдешь нужного издания сразу, купишь его чуть-чуть
попозже.
Не бойся, я добровольно никогда не полезу на головокружительные высоты и не стану
рисковать собою: мы ведь все, к несчастью, дети своего века и страдаем его недугами.
Благодаря тем предосторожностям, которые я сейчас принимаю, я уже так легко снова не
заболею, и надеюсь, приступы мои не повторятся.
596 note 95 Note95 25 июня
У нас здесь стоят великолепные знойные дни, и я принялся за новые полотна, так что у
меня сейчас в работе двенадцать холстов размером в 30, в том числе два этюда кипарисов с
этими трудными оттенками бутылочно-зеленого. Передние планы я густо покрываю
свинцовыми белилами – это придает устойчивость переднему плану.
Мне кажется, что Монтичелли часто подготавливал свои холсты таким способом. На
слой белил накладываются затем другие краски. Но я не уверен, выдержит ли холст такую
нагрузку.
Говоря о Гогене, Бернаре и о том, что они могли бы создать для нас более утешающее
искусство, я должен добавить следующее: я не раз объяснял самому Гогену, что такое искусство
уже было создано другими и что этого не следует забывать. Конечно, покинув Париж, быстро
его забываешь; уехав в деревенскую глушь, меняешь взгляды; но я-то сам никогда не забуду
прекрасные полотна барбизонцев и думаю, что работать лучше, чем они, едва ли удастся и к
тому же вовсе не нужно…
Чувствую я себя по-прежнему хорошо, работа меня развлекает. Получил – вероятно, от
одной из сестер – книгу Рода, заглавие которой «Смысл жизни» выглядит несколько
претенциозно в сравнении с содержанием.
Книжка эта очень невеселая. Автор, по-моему, сильно болен чахоткой, и, следовательно,
его ничто не радует.
В конце концов, он признает, что общество жены все-таки доставляет ему утешение.
Это, разумеется, очень меткое наблюдение, но мне лично оно ни в какой мере не раскрывает
смысла жизни. Со своей стороны, я нахожу автора несколько пресыщенным и удивляюсь, как
это он может в наши дни публиковать такую книгу, да еще стоимостью в 3,50 фр.
Словом, предпочитаю Альфонса Карра, Сувестра, Дроза – в них все-таки больше
жизни. Признаюсь, я, вероятно, очень неблагодарное существо, раз не люблю аббата
Константена и прочую литературную продукцию, прославившую кроткое правление
простодушного Карно.
Мне кажется, книга Рода произвела сильное впечатление на наших милых сестер – Вил,
во всяком случае, мне об этом писала. Но добрые женщины и книги – две вещи несовместные.
С большим удовольствием перечел «Задига, или судьбу» Вольтера. Это вроде
«Кандида». По крайней мере, могучий творец этой книги оставляет читателю надежду на то, что
в жизни есть какой-то смысл, «хотя все признают, что дела в нашем мире идут не совсем так,
как хотелось бы того самым мудрым из нас».
Я нахожусь в нерешительности: мне в общем безразлично, где работать – здесь или в
другом месте: остаться же тут – проще всего.
Нового ничего сообщить не могу. Дни здесь неизменно похожи друг на друга, а сам я
поглощен одной мыслью – что хлеба или кипарисы заслуживают самого внимательного
рассмотрения.
Написал хлебное поле – очень желтое и очень светлое; это, вероятно, самое светлое из
всех моих полотен.
Кипарисы все еще увлекают меня. Я хотел бы сделать из них нечто вроде моих полотен
с подсолнечниками; меня удивляет, что до сих пор они не были написаны так, как их вижу я.
По линиям и пропорциям они прекрасны, как египетский обелиск.
И какая изысканная зелень!
Они – как черное пятно в залитом солнцем пейзаже, но это черное пятно – одна из
самых интересных и трудных для художника задач, какие только можно себе вообразить.
Их надо видеть тут, на фоне голубого неба, вернее, в голубом небе. Чтобы писать
природу здесь, как, впрочем, и всюду, надо долго к ней присматриваться. Вот почему какой-
нибудь Монтенар не умеет, на мой взгляд, дать правдивую и задушевную ноту. Свет –
таинствен, и Делакруа с Монтичелли это чувствовали. Хорошо говорил об этом в свое время
Писсарро, но я еще далек от того, чего он требует…
Полагаю, что из двух полотен с кипарисами лучше то набросок с которого я тебе
посылаю. Деревья на нем очень высокие и толстые. Передний план дан низко, это ежевика и
кустарник. За фиолетовыми холмами зелено-розовое небо и полумесяц. Передний план сделан
особенно густыми мазками, на кустах ежевики желтые, фиолетовые, зеленые отблески.
Рисунки эти пошлю вместе с двумя другими, которые еще делаю.
Это займет ближайшие дни, а ведь здесь самое главное – как-нибудь убить время.
Жаль, что здания нельзя перевозить с места на место: из здешнего убежища получилось
бы великолепное помещение для выставки – коридоры огромные, комнаты пустые.
Очень хотел бы посмотреть картину Рембрандта, о которой ты пишешь в последнем
письме. В свое время я видел в витрине у Брауна репродукцию с одной картины Рембрандта,
которая относится к последнему прекрасному периоду его творчества. Она изображает трапезу
Авраама, в ней великолепны фигуры ангелов, а всего, если не ошибаюсь, пять фигур. Вещь –
изумительная и столь же трогательная, как, например, «Ученики в Эммаусе».
Если когда-нибудь встанет вопрос о том, как отблагодарить г-на Салля за его хлопоты,
ему надо будет подарить репродукцию с «Учеников» Рембрандта.
597
Прилагаю письмо от мамы. Новости, которые она сообщает, тебе, естественно, уже
известны. Считаю, что Кор 1 поступил очень логично, уехав туда.
1 Младший брат Тео и Винсента, уехавший в Трансвааль.
В отличие от европейцев, человек, живущий там, не подвергается влиянию больших
городов, настолько старых, что все в них еле держится и впадает в детство. Поэтому вдали от
нашего общества он не растрачивает свои жизненные силы и природную энергию в гнилом
окружении и, вероятно, чувствует себя более счастливым…
Горячо благодарю за присланные краски. Сократи соответствующим образом мой
предыдущий заказ, но – если, конечно, это возможно, – не убавляй количество белил.
Сердечно признателен тебе также за Шекспира: он поможет мне не растерять те слабые
познания в английском языке, которые у меня остались. Но самое главное не в том: Шекспир
так прекрасен! Я начал читать те пьесы, которые знаю хуже всего, так как в былые времена
просто не нашел на них времени или был поглощен другими делами,– королевские хроники.
Уже прочел «Ричарда II», «Генриха IV» и половину «Генриха V». Читаю, не задумываясь над
тем, похожи ли мысли людей той эпохи на идеи современности, и не пытаясь сопоставлять их с
республиканскими, социалистическими и пр. взглядами.
Так же как при чтении некоторых современных романистов меня больше всего волнует
то, что шекспировские герои, чьи голоса доходят к нам сквозь толщу многих столетий, не
кажутся нам чуждыми. Они настолько жизненны, что нам чудится, будто мы видим и слышим
их.
Есть только один или почти единственный художник, о котором можно сказать то же
самое, – это Рембрандт. У Шекспира не раз встречаешь ту же тоскливую нежность
человеческого взгляда, отличающую «Учеников в Эммаусе», «Еврейскую невесту» и
изумительного ангела на картине, которую тебе посчастливилось увидеть, эту слегка
приоткрытую дверь в сверхчеловеческую бесконечность, кажущуюся тем не менее такой
естественной. Особенно полны такой нежности портреты Рембрандта – и суровые, и веселые,
как, например, «Сикс», «Путник» или «Саския».
Как замечательно, что сыну Виктора Гюго пришла мысль перевести Шекспира на
французский язык и тем самым сделать его доступным для всех!
Размышляя об импрессионистах и проблемах современного искусства, я вижу, что нам
следует извлечь из Шекспира немало уроков. Чтение его убеждает меня в том, что
импрессионисты тысячу раз правы, но что они по здравом и долгом размышлении обязаны
научиться беспристрастно судить о самих себе.
Если уж они осмеливаются называть себя примитивистами, им следует сначала
научиться быть примитивными и в жизни и лишь потом присваивать себе такой титул со всеми
вытекающими из него прерогативами. Это, естественно, не уменьшает вину тех, кто потешается
над импрессионистами и обрекает их на жалкое существование.
В самом деле, если человек вынужден драться семь дней в неделю, он долго не
протянет…
Посылаю тебе дюжину рисунков с полотен, над которыми сейчас работаю: по ним ты
составишь себе представление о том, чем я занят.
Последняя из начатых мною вещей – хлебное поле с маленьким жнецом и огромным
солнцем. Картина – целиком в желтом, если не считать стены и лиловатых холмов на заднем
плане. Есть у меня другая картина, по сюжету почти такая же, как предыдущая, но
отличающаяся от нее по колориту – выдержана она в серовато-зеленых тонах, небо на ней
голубое и белое…
Написал я также кипарисы с хлебами, маками и голубым небом, похожие на пеструю
шотландскую ткань. Краски на этом холсте положены на манер Монтичелли: хлебное поле с
солнцем, создающим впечатление тяжелого зноя, сделано очень густыми мазками.
Поскольку в Арле у меня остались еще кое-какие работы, не успевшие высохнуть до
моего отъезда, я испытываю сильное желание съездить на днях за ними и переправить их тебе.
Там их наберется с полдюжины. Рисунки, которые я посылаю сегодня, довольно бледны по
цвету – отчасти в этом виновата слишком гладкая бумага.
Плакучая ива и двор арльской лечебницы более красочны – они дадут тебе
представление о том, что у меня сейчас в работе. Полотно со жнецом, видимо, станет тем же,
чем был в прошлом году «Сеятель».
599 note 96 Note96 7 июля
Мы слишком мало знаем жизнь и едва ли имеем право судить о том, что добро и что зло,
что справедливо и что не справедливо. Утверждение, что, раз человек страдает, значит, он
несчастен, еще не доказывает, что это действительно так…
Я склонен думать, что болезнь иногда исцеляет нас: до тех пор, пока недуг не найдет
себе выхода в кризисе, тело не может прийти в нормальное состояние…
Завтра еду в Арль за оставшимися там картинами, которые вскоре отошлю вам. Сделаю
это как можно скоpee – хочу, чтобы вы, оставаясь в городе, научились мыслить по-
крестьянски.
Сегодня утром беседовал со здешним врачом. Он подтвердил мои выводы: говорить об
окончательном исцелении можно будет только через год – в моем теперешнем состоянии
любой пустяк способен вызвать новый приступ…
Я несколько удивлен тем, что, прожив здесь уже шесть месяцев на самом строгом
режиме, соблюдая самую строгую умеренность и лишившись своей мастерской, я трачу не
меньше и работаю не больше, чем в прошлом году, когда я вел относительно менее
воздержанный образ жизни.
И при этом совесть мучит меня не больше и не меньше, чем раньше. Это достаточно
убедительно доказывает, что так называемые добро и зло суть, как мне кажется, понятия весьма
относительные…
Вчера с большим интересом прочел «Меру за меру», а также «Генриха VIII», отдельные
места которого очень хороши: например, сцена с Бакингемом и монолог Вулси после его
падения.
Считаю, что мне повезло, раз я имею возможность не торопясь читать и перечитывать
такие вещи. После Шекспира, надеюсь, взяться, наконец, за Гомера.
На дворе оглушительно стрекочут кузнечики, издавая пронзительный звук, который раз
в десять сильнее пения сверчка. У выжженной травы красивые тона старого золота. Прекрасные
города здешнего юга напоминают сейчас наши когда-то оживленные, а ныне мертвые города на
берегах Зюйдерзее. Вещи приходят в упадок и ветшают, а вот кузнечики остаются теми же, что
и во времена так любившего их Сократа. И стрекочут они здесь, конечно, на древнегреческом
языке.
600
Завтра отправляю тебе малой скоростью рулон полотен. Их всего четыре, а именно:
1. Вид Арля – цветущие сады.
2. Плющ.
3. Сирень.
4. Розовые каштаны в арльском ботаническом саду.
Они будут парными к том вещам, которые уже находятся у тебя – «Зеленому
винограднику», «Красному винограднику», «Саду», «Жатве» и «Звездному небу».
В рулон я вложил также несколько просохших этюдов, но это скорее наброски с натуры,
чем сюжеты будущих картин.
Так уж всегда: раньше чем получится что-то цельное, приходится делать множество
этюдов. Вот темы этих семи этюдов:
Ирисы, холст в 30.
Вид убежища в Сен-Реми, холст в 30.
Цветущие персиковые деревья (Арль).
Луга (Арль).
Оливы (Сен-Реми).
Старые ивы (Арль).
Сад в цвету.
Следующая моя посылка будет состоять исключительно из полотен, изображающих
хлеба.
Как ты видишь, я побывал в Арле в сопровождении служителя. Мы зашли к г-ну Саллю,
но он уехал в двухмесячный отпуск. Затем я навестил г-на Рея, которого также не застал.
Остаток дня я провел у моих бывших соседей, у моей прежней прислуги и у прочих подобных
же знакомых. Человек всегда привязывается к тем, кто окружал его во время болезни; поэтому
мне было очень приятно повидать людей, в свое время тепло и снисходительно отнесшихся ко
мне…
Последняя написанная мною здесь картина представляет собою вид на горы. В самом
низу среди олив чернеет хижина.
Очень рад, что картины Милле все еще не распроданы. Как мне хочется, чтобы с них
делалось побольше хороших репродукций, которые могли бы дойти до народа!
Творчество художника выглядит особенно величественно, когда его обозреваешь
целиком, что становится все более затруднительным, по мере того как картины расходятся по
рукам.
601
Знаю, ты ждешь от меня хотя бы нескольких слов, но я должен тебя предупредить, что в
голове у меня все перепуталось и писать мне поэтому очень трудно.
Г-н доктор Пейрон очень внимателен и терпелив со мной. Ты представляешь себе, как я
удручен возобновлением припадков: я ведь уже начинал надеяться, что они не повторятся.
Будет, пожалуй, неплохо, если ты напишешь г-ну Пейрону несколько слов и объяснишь
ему, что работа над картинами – необходимое условие моего выздоровления: я лишь с
большим трудом перенес последние дни, когда был вынужден бездельничать и меня не пускали
даже в комнату, отведенную мне для занятий живописью…
Довольно долго я пребывал в совершенном затмении, таком же, а пожалуй, и худшем,
чем в Арле. Есть все основания предполагать, что приступы повторятся, и это ужасно. Целых
четыре дня я не мог есть – распухло горло. Вхожу в эти подробности не потому, что хочу
поплакаться, а для того, чтобы доказать тебе, что я еще не в состоянии перебраться ни в Париж,
ни в Понт-Авен – разве что в Шарантон…
Новый приступ начался у меня, дорогой брат, в ветреный день, прямо в поле, когда я
писал. Полотно я все-таки закончил и пошлю тебе. Оно представляет собою более сдержанный
этюд: матовые, не броские краски, приглушенные, зеленые, красные и желтые железистые
охры, точно такие, о каких я говорил тебе, когда хотел вернуться к палитре, которой
пользовался на севере…
Книга Рода не приводит меня в восторг, тем не менее я написал картину на сюжет того
отрывка, где говорится о горах и черноватых хижинах.
602 note 97 Note97 Август
С тех пор как я писал тебе в последний раз, самочувствие мое улучшилось, хоть я и не
знаю, надолго ли; поэтому принимаюсь за письмо не откладывая.
Еще раз благодарю за прекрасный офорт с Рембрандта. Мне очень хотелось бы
посмотреть саму картину и узнать, в какой период жизни он ее написал. Вместе с портретом
Фабрициуса, что в Роттердаме, и «Путником» из галереи Лаказа эта вещь относится к особой
категории произведений, когда портрет человека превращается в нечто невыразимо светоносное
и утешающее.
И как все это не похоже на Микеланджело или Джотто, хотя последний и представляет
собой как бы связующее звено между школой Рембрандта и итальянской.
Вчера опять помаленьку принялся за работу. Пишу то, что вижу из своего окна, –
распашку желтого жнивья, контраст фиолетовой земли с кучками желтой соломы, на заднем
плане холмы.
Работа развлекает меня бесконечно больше, чем любое другое занятие, и если бы я мог
отдаться ей со всей моей энергией, она стала бы для меня наилучшим лекарством. Однако это
невозможно – мешает отсутствие моделей и целая куча других обстоятельств.
Словом, приходится вести себя пассивно и набираться терпения.
Я частенько думаю о моих сотоварищах в Бретани – они, несомненно, работают лучше,
чем я. Если бы я мог начать все сызнова, обладая теперешним своим опытом, я не поехал бы на
юг. Однако, будь я независим и свободен, я все-таки сохранил бы свою любовь к нему – здесь
можно сделать столько красивого, например, виноградники или поля, усаженные оливами.
Если бы я доверял местному начальству, самое простое и лучшее было бы перевезти
сюда, в убежище, все мои пожитки и преспокойно остаться здесь.
В случае выздоровления или в промежутках между приступами я мог бы на какое-то
время съездить в Париж или Бретань.
Но, во-первых, жить здесь очень дорого, а, во-вторых, я теперь боюсь других пациентов.
Словом, по многим причинам я полагаю, что не сумею прочно обосноваться и здесь.
Ты скажешь мне,– кстати, я и сам убежден в том же,– что дело тут не в
обстоятельствах, не в окружающих меня лицах, а во мне самом. Что ж, от этого не веселее…
Не так давно я читал в Арле не помню уж какую книгу Анри Консьянса. Согласен, его
крестьяне написаны чересчур сентиментально, но с точки зрения импрессионизма в книге есть
пейзажи исключительно верные, прочувствованные по цвету, поразительному по своей
простоте. Ах, милый брат, в этих вересковых пустошах Кампинг кое-что есть!..
Он, то есть Консьянс, описывает новенький домик с красной черепичной крышей,
залитый солнцем сад, где виднеются лук, щавель и темно-зеленая ботва картофеля, живую
изгородь из буков, виноградник и – вдалеке – ели и желтый дрок. Не бойся – это напоминает
не Казена, а Клода Моне: Консьянс не лишен оригинальности даже там, где слишком
сентиментален.
А я чувствую все и ничего не в состоянии сделать! Ах, черт побери, до чего же это
пакостно!
Если тебе попадутся литографии Делакруа, Руссо, Диаза и пр., репродукции с работ
старых и современных художников, с картин, находящихся в современных собраниях и т. д., я
настоятельно советую тебе не продавать их: скоро такие вещи станут редкостью. Ведь как-
никак в свое время все эти старые репродукции по франку за штуку, офорты и т. п. были
отличным средством популяризации прекрасного.
Брошюра Родена о Клоде Моне чрезвычайно меня интересует, и я очень хотел бы ее
прочесть. Тем не менее я, разумеется, не согласен с ним, когда он утверждает, что Мейссонье –
пустое место; да и картины Руссо тоже весьма интересны для тех, кто их любит и стремится
понять, что же хотел ими сказать художник. Конечно, такого мнения держатся далеко не все, а
лишь те, кто видел эти вещи и приглядывался к ним, что случается не так уж часто. Что же
касается Мейссонье, то будь уверен, его картину можно рассматривать хоть целый год и все
равно на следующий год в ней еще останется что смотреть. Я уже не говорю о том, что у этого
человека в пору его расцвета бывали изумительные находки. Я знаю, конечно, что Домье,
Милле, Делакруа рисовали по-другому, но в фактуре Мейссонье есть нечто подлинно
французское, против чего не возразили бы и старые голландцы, хотя это нечто совершенно им
чуждо и глубоко современно. Нужно быть слепцом, чтобы не разглядеть в Мейссонье
настоящего и притом первоклассного художника!
Много ля есть работ, лучше передающих характер XIX века, чем портрет Этцеля?
Кстати, ту же мысль выразил и Бернар в обоих своих прекрасных панно, виденных нами у Пти,
изображающих человека примитивного и человека современного, которого он показал в виде
чтеца.
Все-таки жаль, что в наши дни все убеждены в несходстве нашего поколения с
поколением, скажем, 48 года. Я же верю, что они неразрывно связаны, хоть и не умею доказать
этого.
Возьми, к примеру, доброго Бодмера, который знал природу как охотник и дикарь,
любил ее и изучал в течение всей своей долгой и подлинно мужественной жизни. Неужели ты
полагаешь, что первый попавшийся парижанин, случайно выехавший за город, знает ее лучше
только потому, что пишет пейзажи в более ярких тонах? Это не значит, что я осуждаю
употребление чистых ярких цветов или что я неизменно восторгаюсь Бодмером как колористом,
но я восхищаюсь им и люблю его как человека, который знал весь лес Фонтенбло от мошки до
кабана, от оленя до жаворонка, от могучего дуба и груды скал до последнего папоротника,
последней травинки.
А это может и умеет далеко не всякий.
Вот другой пример – Брион. А, этот автор жанровых картин из жизни Эльзаса! –
ответят мне. Что ж, «Свадебный обед», «Протестантский брак» и т. д. действительно посвящены
эльзасской теме. Но когда оказалось, что никто не в состоянии иллюстрировать
«Отверженных», за них взялся Брион, причем взялся так, что его иллюстрации не превзойдены
и поныне, а типаж безошибочен. Знать людей определенной эпохи так, чтобы не допустить
ошибки с точки зрения выразительности и типичности – разве это так уж мало?
Ах, у нас, художников, одна судьба – тяжелая работа до конца дней. Вот почему мы
хандрим, когда она не подвигается.
603
На днях я взял большой и трудно давшийся мне этюд сада, который не отправил тебе
(один из вариантов этого сада, но очень непохожий на мой, ты найдешь в последней посылке),
принялся переделывать его по памяти и, кажется, сумел лучше передать гармонию тонов.
Скажи, получил ли ты мои рисунки? В первый раз я отправил тебе посылкой с полдюжины их,
затем около десятка. Если ты, паче чаяния, их не получил, съезди за ними на вокзал – они,
видимо, давно уже там валяются.
Здешний врач рассказал мне о Монтичелли: тот всегда представлялся ему несколько
чудаковатым, но рехнулся всерьез только перед самой смертью. Можно ли, зная, как бедствовал
Монтичелли в последние годы, удивляться, что он не выдержал слишком тяжкого бремени? И
есть ли основания делать из этого вывод, что он оказался неудачником в смысле творческом?
Смею думать, что нет. Он умел быть логичным, умел рассчитывать и как художник отличался
оригинальностью, которая, к сожалению, полностью не раскрылась, так как его никто не
поддержал.
Прилагаю к письму набросок здешних кузнечиков.
Их стрекот в знойные дни действует на меня так же притягательно, как пение сверчков
за печью в наших крестьянских домах.
604 note 98 Note98 Сентябрь
Удивляюсь, как это Маусу взбрело на ум пригласить юного Бернара и меня принять
участие в следующей выставке «Группы двадцати». Разумеется, мне этого очень хочется, хотя я
сознаю, насколько я ниже всех этих исключительно талантливых бельгийцев. Меллери,
например, большой художник и держится на таком уровне вот уже много лет. Впрочем, я
приложу все усилия, чтобы сделать за эту осень что-нибудь стоящее.
Я сижу у себя в комнате, но работаю не покладая рук, что идет мне на пользу, так как не
оставляет времени думать о болезни.
Я переделал полотно, изображающее мою спальню. Это, бесспорно, один из моих
лучших этюдов: рано или поздно его определенно надо будет повторить. Он был написан и
высох так быстро, что терпентин немедленно испарился и краски не успели как следует
пристать к холсту. То же самое произошло и с остальными моими этюдами, выполненными
густым мазком и наспех. Кроме того, через некоторое время редкая ткань окончательно
прохудится и не сможет больше выдерживать толстый слой краски.
Черт побери, ты раздобыл отличные подрамники! Я работал бы гораздо лучше, будь у
меня такие же, а не здешние щепочки, которые мгновенно коробятся на солнце.
Говорят – и я охотно с этим соглашаюсь,– что трудно познать самого себя. Однако
написать самого себя тоже не легче.
Дело в том, что сейчас у меня в работе два автопортрета – мне давно пора снова
заняться фигурой, а другой модели у меня нет.
Один автопортрет я начал в тот день, когда встал после приступа. На нем я чертовски
худ и бледен. Сине-фиолетовый фон и беловатая голова с желтыми волосами создают цветовой
контраст.
Затем я начал другой – трехчетвертной, на светлом фоне.
Кроме того, я подправляю этюды, сделанные этим летом, – словом, работаю с утра до
вечера…
Жизнь художника – довольно утомительная штука, как я вижу. Но силы мои с каждым
днем восстанавливаются, и мне уже опять кажется, что у меня их, пожалуй, слишком много:
ведь для того, чтобы сидеть за мольбертом, вовсе не надо быть Геркулесом.
Ты писал мне, что Маус приходил смотреть мои работы; поэтому и во время болезни, и в
последние дни я много думал о бельгийцах.
Воспоминания обрушиваются на меня, как лавина, и я так упорно пытаюсь представить
себе эту школу современных фламандских художников, что в конце концов начинаю томиться
такой же тоской по родине, как швейцарский наемник.
Это нехорошо, так как наш путь устремлен вперед, возвращаться назад нам и не надо, и
нельзя. Вернее сказать, нам возбраняется не столько думать о прошлом, сколько предаваться
слишком упорным сожалениям о нем.
Анри Консьянс, конечно, не бог весть какой писатель, но то там, то сям, а вернее,
повсюду он предстает как отличный художник! И сколько доброты в его словах и мыслях! У
меня не выходит из головы предисловие к одной из его книг (к «Рекруту»), где он рассказывает,
как однажды тяжело заболел и во время болезни почувствовал, что, несмотря на все его усилия,
в нем слабеет любовь к людям. Тогда он начал совершать длительные прогулки по полям, и это
чувство вернулось к нему. Таково уж неизбежное следствие страдания и отчаяния. Но я-то,
слава богу, опять на некоторое время пришел в себя.
Пишу тебе в перерывах между делом – когда чересчур устаю. Работа подвигается
довольно неплохо. Сейчас мучусь над одной вещью – начато еще до приступа, – над
«Жнецом». Этюд выполнен целиком в желтом и густыми мазками, но мотив прост и красив. Я
задумал «Жнеца», неясную, дьявольски надрывающуюся под раскаленным солнцем над
нескончаемой работой фигуру, как воплощение смерти в том смысле, что человечество – это
хлеб, который предстоит сжать. Следовательно, «Жнец» является, так сказать,
противоположностью «Сеятелю», которого я пробовал написать раньше. Но в этом
олицетворении смерти нет ничего печального – все происходит на ярком свету, под солнцем,
заливающим все своими лучами цвета червонного золота.
Словом, я опять взялся за дело, не намерен сдаваться и с каждым новым полотном
продолжаю искать что-то новое.
Ах, я почти верю, что для меня опять начался период просветления.
Не знаю, на что же решиться – остаться здесь на ближайшие месяцы или уехать?
Приступы – дело нешуточное, и подвергать тебя или других опасности присутствовать при
одном из них слишком рискованно.
Дорогой брат, – продолжаю письмо, как и раньше, в перерывах,– я тружусь, как
одержимый, и меня еще больше, чем раньше, снедает неистовая жажда работы. Думаю, что она
поможет мне вылечиться. Может быть, со мной случится то, о чем говорит Эжен Делакруа, и я
тоже «обрету живопись, когда потеряю зубы и начну страдать одышкой». Я хочу сказать, что
мой прискорбный недуг вынуждает меня работать с глухим неистовством – очень медленно,
но зато с утра до вечера – в этом, пожалуй, весь секрет успеха. Не мне, конечно, судить, но
думаю, что у меня сейчас в работе пара недурных вещей – во-первых, жнец в желтых хлебах и,
во-вторых, автопортрет на светлом фоне, предназначаемые мною для «Группы двадцати», если
она, конечно, не забудет обо мне в последний момент, что будет мне если уж не приятно, то во
всяком случае безразлично.
Я ведь помню, каким источником вдохновения служили для меня воспоминания о
некоторых бельгийцах. Ценно только это, все же остальное имеет лишь второстепенное
значение.
На дворе уже сентябрь, скоро наступит глубокая осень, а затем и зима.
Я намерен и впредь работать изо всех сил, а там будет видно, не случится ли до
рождества новый приступ; если нет, я, вероятнее всего, пошлю к чертям здешнее заведение и
вернусь на север на более или менее продолжительный срок. Уехать же сейчас, когда я
предвижу возможность нового приступа зимой, то есть месяца через три, было бы, видимо,
слишком неосторожно. Вот уже полтора месяца как я никуда не выхожу из комнаты – даже в
сад. На следующей неделе, закончив начатые полотна, я все же рискну выбраться на прогулку.
Еще несколько месяцев такой жизни – и я настолько отупею и опущусь, что любая
перемена местожительства пойдет мне на пользу…
Опять делаю перерыв в работе и продолжаю письмо. Вчера начал портрет старшего
надзирателя и, вероятно, напишу также его жену: он состоит в браке и живет на маленьком
хуторе в нескольких шагах от убежища.
Он – очень примечательная фигура того типа, о котором ты можешь составить себе
представление по великолепному офорту Легро, изображающему старого испанского
аристократа, помнишь? Он служил в марсельской больнице во время двух эпидемий холеры.
Словом, это человек, видевший бесконечно много страданий и смертей, и в его лице есть какая-
то сосредоточенность, которая невольно напоминает мне Гизо, хотя мой надзиратель и не
похож на последнего – он человек из народа и натура более простая. Впрочем, ты сам все
увидишь, если мне удастся довести портрет до конца и сделать повторение.
Я борюсь изо всех сил, стараясь преодолеть любые трудности, потому что знаю: работа
Интервал:
Закладка: