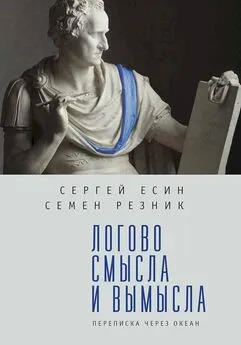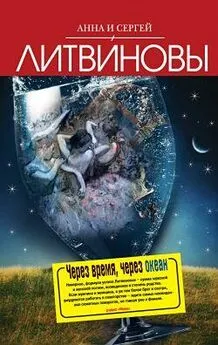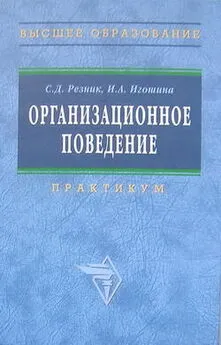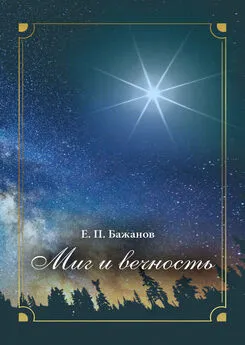Семен Резник - Логово смысла и вымысла. Переписка через океан
- Название:Логово смысла и вымысла. Переписка через океан
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2021
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-00165-185-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семен Резник - Логово смысла и вымысла. Переписка через океан краткое содержание
Сергей Николаевич Есин, профессор и многолетний ректор Литературного института им. А. М. Горького, прозаик и литературовед, автор романов «Имитатор», «Гладиатор», «Марбург», «Маркиз», «Твербуль» и многих других художественных произведений, а также знаменитых «Дневников», издававшихся много лет отдельными томами-ежегодниками.
Семен Ефимович Резник, писатель и историк, редактор серии ЖЗЛ, а после иммиграции в США — редактор и литературный сотрудник «Голоса Америки» и журнала «Америка», автор более двадцати книг. В их числе исторические романы «Хаим-да-Марья» и «Кровавая карусель», книги о Николае Вавилове, Илье Мечникове, Василии Парине, Алексее Ухтомском и других выдающихся ученых, историко-публицистические произведения, из которых наибольший резонанс вызвала книга «Вместе или врозь?», написанная «на полях» скандально-знаменитой дилогии А. И. Солженицына.
Живя по разные стороны океана, авторы не во всем были согласны друг с другом. Но их объединяло взаимное уважение, личная симпатия и глубокая любовь к литературе. В книге письма писателей друг к другу перемежаются фрагментами из обсуждаемых ими произведений.
Логово смысла и вымысла. Переписка через океан - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Заканчивая разговор о внутреннем редакторе, который, конечно, страшнее любого цензора, следящего лишь за государственной тайной, я вспомнил такой эпизод. Как‐то в одном из писем на радио встретилось пожелание двух 80‐летних стариков — услышать в исполнении кого‐нибудь из мастеров художественного слова стихотворение А. Блока «Девушка пела в церковном хоре». Время было атеистическое. Цензуре до этого стихотворения не было никакого дела. Но я твердо знал, что наша внутренняя редактура, которая читала и слушала все, никогда это стихотворение не пропустит. Но ведь каждый здравомыслящий человек понимает, что начальству надо задавать лишь такие вопросы, которые начальники могут сразу решить. Я снял телефонную трубку прямой правительственной связи и позвонил председателю Госкомитета по радио и телевидению С. Г. Лапину: «Сергей Георгиевич, двое стариков хотели бы в концерте по заявкам услышать стихотворение Блока „Девушка пела в церковном хоре“. Я думаю, стариков надо уважить». В трубке застыла пауза. Скажут что‐нибудь или нет? Я молчал. Наконец, председатель своим характерным баском произнес: «Ну, валяй, давай!» Кстати, неоднократно С. Г. Лапин разрешал литературной редакции Всесоюзного радио давать в эфир очень многое из того, что вроде бы в эфир давать было не принято.
У любой цензуры есть свои передержки.
Семен Резник Цензура и самоцензура в СССР, 1983, Лиссабон [77] Сахаровские слушания: 4‐я сессия, Лиссабон, октябрь 1983. Редактор‐составитель Семен Резник // Overseas Publications Interchange Ltd, London, 1985 C. 159–171. Печатается в сокращении.
Двадцать с лишним лет я проработал в советской печати и литературе. Был членом Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР. В СССР опубликовано около двухсот пятидесяти моих произведений, в том числе семь книг. Однако ни одна из моих книг не была опубликована в том виде, как я ее написал и хотел издать: каждая в той или иной степени искалечена цензурой. Кроме того, три книги и большое число статей, рецензий, открытых писем вообще не было опубликовано из‐за отсутствия в СССР интеллектуальной свободы, то есть из‐за гнета цензуры. С советской издательской практикой я знаком не только как автор, но и как редакционный работник, ибо в течение 11 лет (10,5 в издательстве «Молодая гвардия» и полгода в журнале Академии Наук «Природа») я работал редактором.
Хорошо известно, что в СССР существует особый государственный орган, называемый «Главлит», на который вполне официально возложены функции государственной цензуры всех без исключения печатных изданий. Не только книги, газеты, журналы, но даже почтовые открытки, конверты, театральные билеты и т. п. не могут быть напечатаны без разрешения Главлита. Официально функции Главлита ограничены надзором за проникновением в печать военных или научнотехнических секретов, но практически на него возложены, в первую очередь, обязанности политической и идеологической цензуры. Это легко доказывается тем фактом, что наряду с Главлитом в СССР имеются и специальные виды цензуры: военная, космическая, атомная… Кроме того, ни одна научная статья не может быть опубликована без специального «акта экспертизы», в котором авторитетные специалисты расписываются в том, что данная статья не содержит не подлежащих разглашению секретов. В этих условиях, если бы Главлит осуществлял только те функции, которые за ним закреплены официально, его работникам вообще нечего было бы делать.
Но официальная цензура является отнюдь не единственной инстанцией, которая в СССР осуществляет функции надзора за печатью. Здесь задавали вопрос о том, сколько людей осуществляют в СССР цензуру печати. Ответить на него просто: практически все работники печати, в той или иной степени являются цензорами, так что цензура носит тотальный характер .
Первый этап цензуры, и порой наиболее жесткий — это самоцензура автора. Даже те произведения, которые не попадают в печать и расходятся в «Самиздате», неизбежно проходят жесткую самоцензуру. Автор избегает называть имена людей, чтобы не подвести их, он избегает высказывать определенные взгляды, которые могут быть интерпретированы так, что он получит семь лет тюрьмы, а не три года, на которые он, возможно, внутренне решился… Так, подчеркиваю, обстоит дело с «Самиздатом». Если же писатель предназначает свое произведение для издания официальной советской печатью, то само собой разумеется, что он начинает с самоцензуры.
Моя первая книга, биография академика Николая Ивановича Вавилова, была издана в 1968 году.
Академик Вавилов, как это хорошо известно, был великим генетиком и растениеводом, принципиальным сторонником теории наследственности, созданной Менделем и Морганом. В 1930‐е годы Н. И. Вавилову пришлось участвовать в так называемых «генетических дискуссиях», навязанных советским ученым группой невежественных обскурантов во главе с Т. Д. Лысенко. Основным оружием полемики этой группы были демагогия и прямые политические доносы. Лысенко и его сторонников поддерживали руководители советского государства и величайший генетик всех времен и народов товарищ Сталин. В результате этих «дискуссий» научная генетика в СССР была разгромлена, Н. И. Вавилов арестован и приговорен к смертной казни, «милостиво» замененной ему двадцатилетним заключением, которого он не вынес. Он умер в тюрьме от голода. Это — человек, трудами которого Советский Союз уже в то время получал, да и сейчас получает миллионы пудов прибавки урожаев хлеба. Но он не имел куска хлеба, тюремщики не давали, и от этого он умер. А я, уже в 60‐е годы, писал о нем книгу. И поскольку я хотел, чтобы хоть какая‐то часть правды дошла до читателей, я, прежде всего, должен был заниматься самоцензурой.
Самоцензуре пришлось подвергнуть не только мои собственные суждения, но и архивные материалы, которые мне удалось разыскать. Многие из них я не включил в рукопись отнюдь не из‐за их малой значимости для раскрытия моей темы, а по цензурным соображениям.
Еще во время работы над биографией Вавилова мною была задумана книга очерков о наиболее видных представителях его научной школы: П. М. Жуковском, В. Е. Писареве, Г. Д. Карпеченко, Г. С. Зайцеве, Г. А. Левитском, К. И. Пангало и некоторых других крупных биологах. Однако при прохождении через различные инстанции моя книга о Вавилове усохла на целых сто страниц, а после подписания сигнального экземпляра в свет была объявлена «идеологически вредной», б о льшая часть тиража (90 тысяч из ста тысяч) была «арестована», девять месяцев решалась ее судьба [78] Подробнее см.: Семен Резник. Эта короткая жизнь: Николай Вавилов и его время. // М., «Захаров», 2017, глава «История с биографией» С. 13–42.
. После всех этих гонений нечего было и думать о книге, почти каждый герой которой либо погиб в заключении, либо провел в тюрьме много лет, любо подвергался другим репрессиям как «менделист‐морганист». В результате самоцензуры от этого замысла пришлось отказаться и взяться за биографию И. И. Мечникова, который, на мое счастье, умер в 1916 году, что автоматически избавляло от многих трудностей, хотя и не от всех. Лишь через много лет я написал небольшую книгу об одном из учеников Вавилова — хлопководе Г. С. Зайцеве, который имел перед другими то «преимущество», что умер в 1929 году, еще до начала генетических дискуссий. Правда, с Зайцевым расправились посмертно. Его объявили вредителем в хлопководстве, его труды были изъяты из библиотек, о вредительстве профессора Зайцева писались поэмы, издававшиеся массовыми тиражами с благословения советской цензуры. В порядке самоцензуры мне пришлось отказаться от первоначального замысла: завершить книгу главой об этих посмертных гонениях.
Интервал:
Закладка: