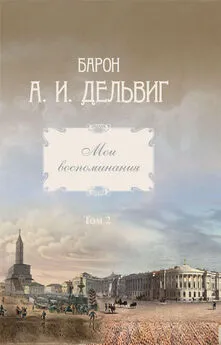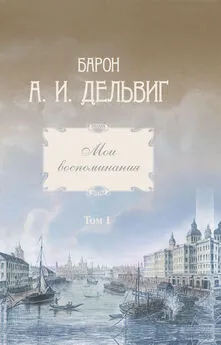Андрей Дельвиг - Мои воспоминания. Том 1. 1813-1842 гг. [litres]
- Название:Мои воспоминания. Том 1. 1813-1842 гг. [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Нестор-История
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-44691-382-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Дельвиг - Мои воспоминания. Том 1. 1813-1842 гг. [litres] краткое содержание
Мои воспоминания. Том 1. 1813-1842 гг. [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Нижний Новгород мы приехали утром 15 июля и остановились на Печерской улице в верхнем этаже дома Андреева. В полдень выкинуты были флаги на ярмарке, что обозначает ее открытие. Немедля по выкинутии флагов был объявлен указ о том, что впредь монетной единицею вместо ассигнационного рубля будет рубль серебряный, что все сделки должны производиться на эту последнюю монету, и указан способ уплаты по сделкам, совершенным до сего времени. При этом серебряный рубль приказано считать в 3 1/2 ассигнационных рубля, а золотая монета оценена была выше на 3 %, так что стоимость монеты в 5 золотых рублей назначена в 5 руб. 15 коп. сер., и всякий так называемый лаж на эти монеты был запрещен. В последнее перед этим время в торговле и между частными лицами серебряный рубль, принимаемый в казне по 3 руб. 60 коп., ходил по 4 руб. 20 коп. асс. и даже выше, а 5-рублевая бумажная ассигнация, принимаемая казной за 5 руб. асс., ходила по 6 руб., так что и на серебре, и на ассигнациях лаж достиг около 20 %. Этот лаж, впрочем, постоянно менялся; очень долго после войны 1812–1815 гг. серебряный рубль ходил по 4 руб. асс., а 5-рублевая ассигнация по 5 руб. 40 коп., но с 30-х годов лаж начал постепенно увеличиваться то на серебряную монету, то на бумажные деньги. Нет сомнения, что это постоянное колебание в курсе ходячей монеты вредно действовало на торговлю, и в особенности на наиболее бедный класс, который никогда не мог знать определительной цены ходячей монеты и часто подвергался обманам.
Указ о новой монетной единице, объявленный на ярмарке, на которой производятся самые большие денежные обороты, как по продаже и покупке привозимых в огромной массе товаров, так и по счетам, оставшимся неуплаченными от прошлогодней нижегородской и других ярмарок и вообще по торговым сделкам последних лет, перепугал всех торговцев, и в особенности тех, которые имели в наличности золотую и серебряную монеты. Один купец, имевший несколько тысяч золотых монет, повесился, полагая, что он разорен тем, что в его звонкой монете каждый серебряный рубль понизился на семьдесят копеек и что вообще капитал его, бывший примерно в 42 000 руб. асс., будет считаться теперь только за 10 000 руб. сер. Конечно, потрясение, {сделанное помянутым указом в торговых расчетах}, по прошествии некоторого времени улеглось и {в дальнейшее время} не имело вредных последствий, которые оказались только в том, что в то время вдруг возвысились цены почти на все предметы, как это неизбежно при переходе от монетной единицы низкой ценности к монетной единице ценности высшей; сверх того, этому много способствовало одинаковое название как ассигнационной, так и серебряной монетной единицы; {как та, так и другая называлась} рублем. Тем, для кого расход в 5 руб. асс. не имел значения, расход в 5 руб. сер. был весьма значителен, но при одинаковом названии монетной единицы различие их стоимости часто позабывалось, и многие входили через это в гораздо большие расходы в сравнении с прежними. Я слышал, что бывший тогда министром финансов граф Егор Францевич Канкрин, {конечно, наиспособнейший из наших министров}, был вообще против меры, объявленной в указе о принятии серебряного руб ля за монетную единицу, но что на этой мере настоял сам Император Николай. Записки Канкрина по этому предмету я не читал, а потому не могу здесь привести его доводов. Впрочем, счет на серебряную монету после указа установился только в делах с казной и в сделках между торговцами и частными лицами, когда они заключались формально, в прочих же случаях в Москве и вообще внутри России все продолжали лет 20 считать на ассигнации, хотя их давно уже не существовало в обращении, так как они были разменяны на кредитные билеты, писанные на серебряные рубли. При размене ассигнаций на эти билеты цена ассигнационного рубля была принята в 3 1/2раза менее серебряного. Это отношение серебряного рубля к воображаемой монетной единице ассигнационного рубля было принимаемо постоянно всеми, так что лаж на ту и другую монеты прекратился.
{Описаний Нижнего Новгорода и его ярмарки имеется довольно, а потому я ограничусь в описании их только некоторыми впечатлениями, которые они произвели на меня. Город расположен на правом высоком берегу реки Оки и Волги при их соединении; виды везде величественные; город разделен на две части: находящуюся на горе, называемую верхним базаром, и под горою, называемую нижним базаром. Первая, в которой мы поместились, довольно пуста и в ярмарочное время; на последней же толпится в это время много простого народа, масса которого необычайно велика около деревянного плашкоутного моста через р. Оку, соединяющего город с ярмаркою.} На самой ярмарке, за исключением площади перед главным ярмарочным домом, где видно движение, и то в известные часы дня, везде очень пусто, хотя все лавки казенного ярмарочного двора <���в числе нескольких тысяч> и все устроенные частными лицами, в числе <���также> нескольких тысяч, переполнены товарами, не говоря уже об огромных грузах, лежащих на нескольких пристанях рек Волги и Оки, окружающих ярмарочный двор. В модной линии, идущей от главного ярмарочного дома к православному собору, и в некоторых других встречаются экипажи и пешеходы, но бо́льшая часть линий совершенно пусты, в них даже лавки заперты, и перед ними сидят сторожа из татар. Публику видно там, где производится розничная продажа, так как оптовая производится большей частью в трактирах при угощении вином или чаем, а лавки ярмарочного двора служат только запасными магазинами, в которых беспрерывно вывозимые товары заменяются новыми. Эта самая значительная {в мире} ярмарка сама собою устроилась при ничтожном городе Макарьеве на р. Волге, в ста верстах ниже Нижнего Новгорода. В начале 20-х годов текущего столетия она перенесена распоряжением правительства на левый берег р. Оки против Нижнего Новгорода, при впадение в р. Волгу. На песчаном низменном полуострове построен средствами правительства огромный гостиный двор, православный собор, армянская церковь, магометанская мечеть и большой дом для помещения на ярмарочное время присутственных мест и губернатора. Постройка была поручена генерал-лейтенанту Бетанкуру, который, несмотря на то что во время постройки ярмарочного двора был главным директором путей сообщения в Империи (после смерти инженер-генерала Деволанта {676}в 1818 г.), каждое лето во время постройки лично управлял работами, так как они представляли много затруднений. Генерал Бетанкур, потомок знаменитой испанской фамилии, был французским инженером и вызван Императором Александром в Россию, где {до последнего вышеупомянутого назначения} был главным начальником Института инженеров путей сообщения. В этой должности ему присланы были знаки ордена Св. Анны 1-й степени, но он их не принял, так как он был кавалером испанского ордена Сант-Яго, который он считал почему-то высшим ордена Св. Анны, а потому вместо последнего были присланы ему знаки ордена Св. Александра Невского. Император Александр вообще весьма благоволил к Бетанкуру, который имел много врагов между приближенными Императора. Несмотря на то что Государь знал это и говорил Бетанкуру, что он всегдашний его защитник, в 1822 г. воспользовались отъездом Государя за границу, обвинили Бетанкура в неправильности счетов и довели до того, что он был удален от должности, после чего вскоре умер. Нападки на Бетанкура были несправедливы; он был знающий инженер и честный человек, но подчиненные его, из которых при устройстве ярмарочного двора было много испанцев, видимо, пользовались от работ. Выбор же испанцев оправдывался тем, что тогда русских инженеров было еще очень мало; сверх того, Бетанкур не знал русского языка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Андрей Дельвиг - Мои воспоминания. Том 1. 1813-1842 гг. [litres]](/books/1142743/andrej-delvig-moi-vospominaniya-tom-1-1813.webp)


![Андрей Васильев - Квадратура круга. Том 2 [СИ litres]](/books/1075900/andrej-vasilev-kvadratura-kruga-tom-2-si-litres.webp)
![Андрей Васильев - Файролл. Квадратура круга. Том 1 [litres, СИ]](/books/1089027/andrej-vasilev-fajroll-kvadratura-kruga-tom-1.webp)
![Андрей Васильев - Файролл. Снисхождение. Том 2 [litres]](/books/1091118/andrej-vasilev-fajroll-snishozhdenie-tom-2-litr.webp)
![Андрей Васильев - Файролл. Снисхождение. Том 3 [litres]](/books/1091119/andrej-vasilev-fajroll-snishozhdenie-tom-3-litr.webp)
![Андрей Васильев - Квадратура круга. Том 4 [СИ litres]](/books/1145926/andrej-vasilev-kvadratura-kruga-tom-4-si-litres.webp)