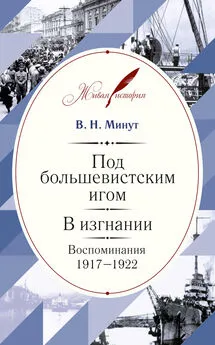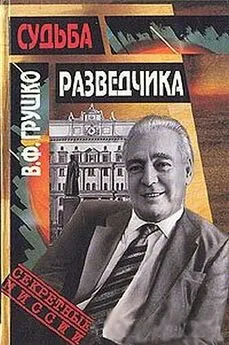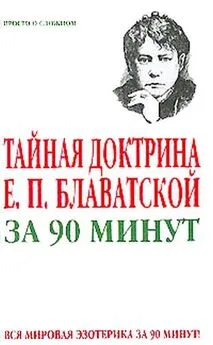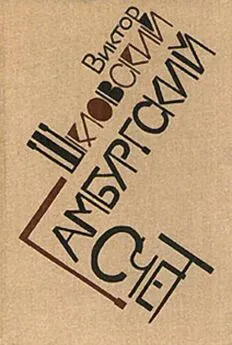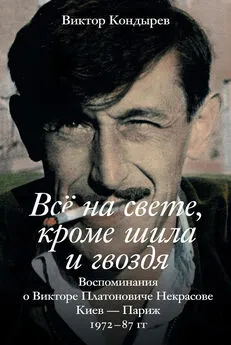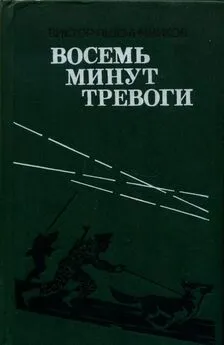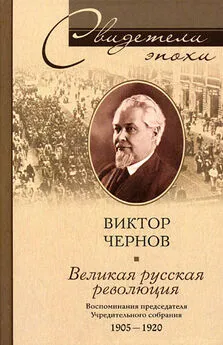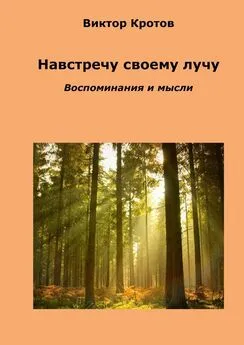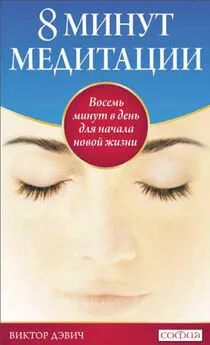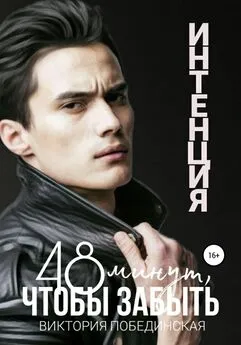Виктор Минут - Под большевистским игом. В изгнании. Воспоминания. 1917–1922
- Название:Под большевистским игом. В изгнании. Воспоминания. 1917–1922
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9950-0569-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Минут - Под большевистским игом. В изгнании. Воспоминания. 1917–1922 краткое содержание
Под большевистским игом. В изгнании. Воспоминания. 1917–1922 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кстати сказать, как много народу переменили фамилии вслед за переименованием Петербурга в Петроград, некоторые ограничивались русификацией фамилий присоединением окончаний «ин», и «ов» к немецкой фамилии, другие заменяли свою фамилию совсем новой, звучащей по-русски, заимствуя ее или у жены, или у матери, меняли даже отчества. Говорили, не знаю насколько это верно, что Саблер не только переменил свою фамилию на Десятинского, какова была фамилия его матери, но будто бы даже на надгробном камне своего отца переделал Карла в Карпа {118}.
Стали ли от этого лучшими патриотами эти перекрещенные люди, я не знаю, но только под этим же предлогом много разных Шварцов, Вейсов и т. п. превратились в Черновых, Беловых, оставаясь в душе чистокровными немцами, а подчас и шпионами.
Меня заинтересовало, что это за корпус формируется в Бежецке; почему Бежецк выбран пунктом формирования и тот ли это Тележников, которого я предполагал.
Зашел. Оказывается, что это был действительно генерал-лейтенант Тележников, который был теперь назначен командиром Бежецкого корпуса, состоявшего из двух пехотных дивизий: Тверской и Мологской, полки которых будут формироваться по городам, частью Тверской, частью Ярославской губерний.
Из краткого разговора с Тележниковым я узнал, что советское правительство приступает к созданию так называемой Красной армии, предполагает сформировать 66 пехотных дивизий с соответствующим количеством артиллерийских и инженерных частей, со службой связи и пр., придерживаясь той организации, которая существовала в конце войны.
Вскоре затем Тележников со штабом, действительно, переехал в Бежецк, и началось формирование. Шло оно очень вяло, судя по тому, что в августе месяце, когда в штаб одной из дивизий, квартировавшей в Бежецке, поступил один мой знакомый штабс-капитан, полки дивизии насчитывали в своих рядах не более 200 человек.
Эта Красная армия вначале комплектовалась исключительно добровольцами. Очевидно, советское правительство имело в виду создать армию наемников, послушное орудие в их руках; армию, живущую только профессиональными интересами. Но, несмотря на большое жалование (300 рублей в месяц) и хороший сравнительно паек при общей голодовке (2 фунта хлеба, 6 золотников [37]сахару, чай, крупа, мясо или консервы), добровольцев оказалось очень мало. Впрочем, если бы прилив добровольцев оказался большим, быть может, военные власти были бы поставлены в не меньшее затруднение с продовольствием, так как дивизионный интендант, как мне передавали, неоднократно докладывал начальнику дивизии, что по имеющимся запасам он более тысячи человек продовольствовать не может.
Эта последняя причина хозяйственного характера, по всей вероятности, и побудила советское правительство вскоре отказаться от выполнения своей первоначальной программы и сократить армию с 66 дивизий до 16, так как в личном составе, собственно говоря, недостачи уже не должно было бы быть, ибо к тому времени (сентябрь 1918 года) была уже введена обязательная воинская повинность {119}, были призваны очередные возрасты новобранцев, и призывались офицеры в мере надобности в соответствии с ростом армии, начиная тоже с младших возрастов.
Лишние дивизии, подлежавшие расформированию, были распределены по сохраняемым дивизиям. Штаб Бежецкого корпуса был упразднен, а личный состав штаба корпуса и штабов дивизий был разослан по другим городам (Рыбинск, Шуя, Иванов-Вознесенск и др.). Как шло формирование далее, мне неизвестно, так как я утратил всякую связь с Красной армией; знакомый мой попал сначала в штаб стрелковой дивизии в Орле, потом там же перешел в штаб Юго-Западного фронта – и я потерял его из вида.
Другой мой знакомый попал на Северный фронт, в штаб армии [38], действовавший на Котласском направлении. Армией этой в начале сего года командовал генерал Самойло {120}, начальником штаба у него был генерал Петин {121}. Всем Северным фронтом, по дошедшим до меня сведениям, командовал генерал Парский, имея штаб-квартиру в Ярославле. Начальником снабжения у него был генерал Фролов {122}, помощником последнего в Петрограде генерал Тигранов {123}.
Армия генерала Самойло в начале этого года насчитывала в своих рядах всего лишь 5000 человек. Довольствие ее на фронте было довольно сносно: хлеба два фунта, сахару двенадцать золотников [39]и тому подобное в совершенно иных условиях было довольствие тыловых и запасных частей. Получали они всего лишь по одному фунту хлеба, щи с воблой, в редких случаях получали конину (маханину, как говорили солдаты), иногда кашу, не более двух-трех ложек, сахару шесть золотников, чаю – не знаю сколько.
Выдача даже этого скромного довольствия была сопряжена с большими затруднениями, из которых власти выходили тем путем, что распускали призванных в кратковременные отпуска по домам.
Несмотря на дурное питание и вообще малую заботу о солдатах, в казармах поддерживалась строгая дисциплина, так как малейшее проявление неповиновения немедленно сурово каралось.
В Осташкове [40], например, был такой случай. Призванные на службу запасные солдаты вздумали предъявлять требования, как при Временном правительстве. Заявили, что не пойдут на учение, пока им не выдадут сапог и не дадут по два фунта хлеба. Ротный командир сообщил об этом комиссару, тот распорядился выкатить пулеметы и затем предложил протестующим выйти вперед. Конечно, никто не вышел, и учение пошло гладко.
Солдатские комитеты, учрежденные в войсках в начале революции и имевшие, в сущности говоря, безграничную власть, вернее, осуществлявшие своеволие разнузданной солдатской массы, были уничтожены в октябре 1919 года простым приказом {124}. За ними были сохранены права самоуправления только в хозяйственном отношении, все же прочее, то есть вторжение в военные распоряжения, обсуждение вопросов, касающихся обучения, военных действий, суда, назначения начальствующих лиц и тому подобное, – все это было изъято из круга их ведения.
Мера эта прошла в войсках совершенно гладко и не сопровождалась никакими волнениями. Это, собственно говоря, вполне и понятно, так как советское правительство предусмотрительно приступило к ее осуществлению тогда, когда в армии не было уже старых солдат, свидетелей революционных безобразий, и состояла она преимущественно из новобранцев очередных призывов, не вкусивших еще прелести самовластия, вернее своеволия. При дальнейших призывах стали поступать в армию и бывшие солдаты, но тогда они попадали сразу в новую обстановку и, запуганные деспотизмом советской власти в деревне, без протеста покорялись новому режиму.
Узнал я об этом во время своего первого призыва в декабре 1918 года. Сидя на станции уездного города в ожидании поезда, я заметил в толпе солдата, одетого аккуратнее других, с каким-то красным эмалевым значком на груди. Остановил его и спрашиваю, что обозначает этот знак.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: