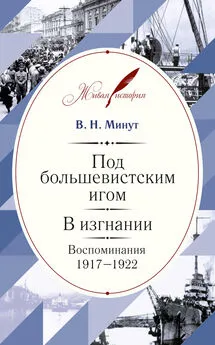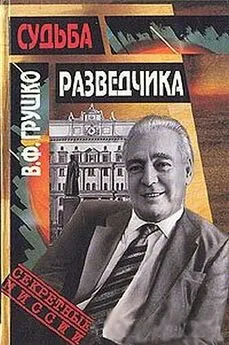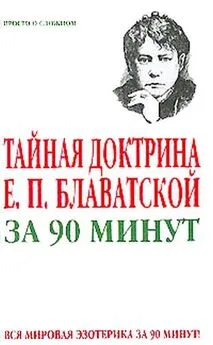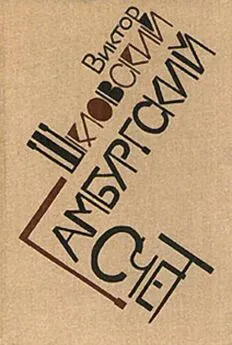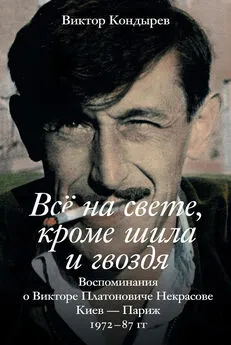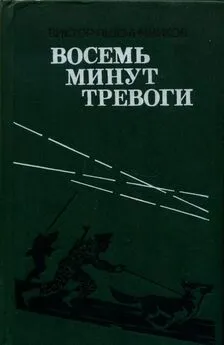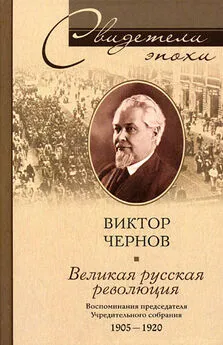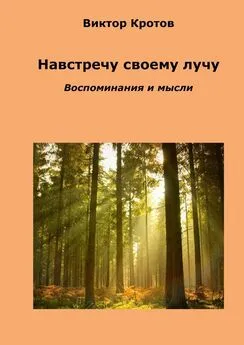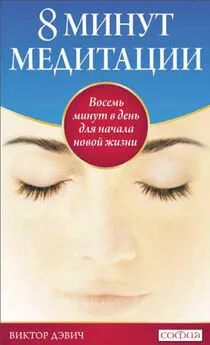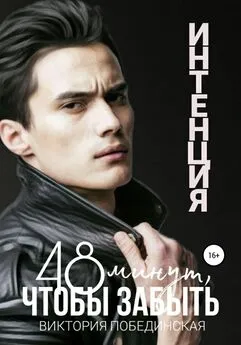Виктор Минут - Под большевистским игом. В изгнании. Воспоминания. 1917–1922
- Название:Под большевистским игом. В изгнании. Воспоминания. 1917–1922
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9950-0569-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Минут - Под большевистским игом. В изгнании. Воспоминания. 1917–1922 краткое содержание
Под большевистским игом. В изгнании. Воспоминания. 1917–1922 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В холодный пот бросило меня, когда мне показали эту брошюру: не только хлопоты моей жены о разрешении на выезд мне представились безвозвратно утраченными, но и сама она могла подвергнуться репрессиям. Снова, как кошмар, грезился мне расстрел большевиками жены генерала Стогова лишь за то, что ее муж бежал из Совдепии. Но, слава Богу, тревога была напрасной. Очевидно, по счастливой случайности, учреждение, ведающее разрешениями на выезд, не получило откуда следует предупреждения, и разрешение было выдано. Приписываю это счастливой случайности, так как большевики были осведомлены о том, что я жив и нахожусь за границей; прихожу к этому заключению не только судя по упомянутой брошюре, но еще и потому, как они открыли мое пребывание в Буэнос-Айресе, о чем я скажу ниже.
Но вернусь к эвакуации офицеров.
Плохо ли, хорошо ли, но эвакуация продолжалась, и лагеря начали мало-помалу освобождаться. Наполовину опустевшие лагеря сливались в один, и число их сокращалось. И было время, так как в конце сентября междусоюзническая комиссия должна была закончить свое существование, и официально было объявлено, что одновременно с этим все лагеря, за исключением тех, где были сосредоточены больные, не требующие госпитального лечения и выздоравливающие, будут закрыты, и поэтому находящимся в них было предложено немедленно озаботиться о своей будущности.
Предстоящее упразднение междусоюзнической комиссии ставило на очередь вопрос и о моей дальнейшей деятельности.
В сущности, передо мной был выбор трех направлений: на Западный фронт, куда приглашали меня лично еще в начале лета для организации тыла, на Северный фронт, откуда генерал Миллер неоднократно просил о присылке ему помощников на высшие должности, и, наконец, на Южный фронт, который, правда, не страдал недостатком генералов, а, скорее, тяготился изобилием их, но на котором я, благодаря близкому служебному знакомству с генералом Деникиным, когда он был главнокомандующим армиями Западного фронта, а я главным начальником снабжений, и с генералом Романовским, бывшим генерал-квартирмейстером штаба 10-й армии, в бытность мою начальником штаба ее, не опасался остаться не у дел. По всей вероятности, я в конце концов остановился бы на этом направлении, если бы судьбе не угодно было решить иначе.
В конце августа генерал Монкевиц отправился в Париж, чтобы получить от генерала Щербачева инструкции для дальнейшей деятельности русской военной миссии в Берлине, назначение каковой, после ликвидации наших военнопленных, существенно изменялось, перестав быть посредствующим звеном между военнопленными и союзнической комиссией. Эта миссия тем не менее не могла прекратить своего существования в качестве центрального органа, наблюдающего интересы русских военных беженцев, нашедших убежище в Германии. Существование такого органа было необходимо не только для беженцев, но и для правительства приютившей их страны.
Еще в июле месяце генералом Деникиным были командированы военные представители в те страны, где не сохранилось наших военных агентур, бывших до войны. В Берлин был командирован Генерального штаба полковник Брант {225}. Существование двух параллельных органов военного представительства, конечно, не имело никакого смысла, поэтому вслед за отъездом генерала Потоцкого на Южный фронт вопрос естественно разрешался слиянием этих двух органов с полковником Брантом во главе. В этой комбинации для генерала Монкевица, возглавлявшего до этого времени военное представительство, места уже не было, и вот для выяснения этого обстоятельства он и поехал в Париж.
В это самое время разрешался вопрос о назначении генерала Головина {226}начальником штаба к адмиралу Колчаку. Монкевиц, бывший во время войны одним из сотрудников генерала Головина на Румынском фронте, предложил ему свои услуги и вместе с тем, зная о моем желании отправиться для работы на один из противобольшевистских фронтов, упомянул и обо мне, не запрашивая меня предварительно. Предложение было принято. Таким образом, без моего непосредственного участия был разрешен вопрос о моей дальнейшей участи. Нечего греха таить: внутренне я был доволен, что судьбе угодно было принять на себя это решение, которое потребовало бы от меня долгих размышлений и было бы сопряжено с колебаниями, а впоследствии, быть может, и с поздними сожалениями.
Одновременно с получением мной этого известия, было объявлено об отходе из Бреста в Владивосток, в конце октября, парохода Добровольного флота «Могилев» {227}, на котором предлагалось отправиться всем желающим ехать на Дальний Восток. Откликнулось на это предложение около сорока человек, из которых только половина были бывшие военнопленные, прочие же из числа беженцев. Среди последних было человек десять семейных, кто с женой, кто со взрослой дочерью, кто с сестрой, а один полковник Генерального штаба даже с двумя малолетними детьми. Что ожидало их на Дальнем Востоке, никто из них ясно не представлял себе. Если одиноких толкала туда потребность деятельности, а молодых – новизна обстановки, то семейных побуждала главным образом, думается мне, отсрочка еще на несколько месяцев рокового «а что будет завтра».
Действительно, с одной стороны, через месяц будут закрыты лагеря, бесплатные кров и стол прекратятся, устроиться в Германии – надежды нет, с другой же стороны – казенный паек еще на неопределенный срок, и это в такое время, когда редкий день не бывал чреватым событиями, а если не событиями, то самыми невероятными, но тем не менее доверчиво принимаемыми слухами о близком падении большевиков. Без всякого энтузиазма, а вынужденные обстоятельствами, тронулись эти волонтеры, досидевшие до последнего срока, со своих насиженных мест в немецких лагерях.
Для того чтобы попасть в Брест, надо было пересечь всю Францию, с пересадкой в Париже. В самой же Франции, в таких же, как в Германии, лагерях, содержалось немало русских офицеров из состава русских войск, действовавших на французском фронте и быстро разложившихся после Февральской революции {228}. Поэтому французское правительство, озабоченное скорейшей ликвидацией этого контингента, зорко следило, чтобы он не увеличивался приливом новых элементов. Вообще в то время, хотя во главе правительства не было уже Клемансо {229}, этого «тигра», который ничего слышать не хотел об «этих» русских, после развала наших войск заразивших чуть не половину французской армии, все же отношение к нашим офицерам было очень недружелюбное.
Французы, как и многие другие иностранцы, за исключением, пожалуй, немцев, не могли или не хотели отличать правых от виноватых. Позорный Брестский мир они ставили в счет всему русскому народу и, естественно, с укором смотрели на всех его представителей. Забыто было все, что было сделано русской армией во время войны. Забыто было наше безумное вторжение в Восточную Пруссию, вынудившее немцев перебросить часть своих резервов на восток и способствовавшее тем самым успеху французов на Марне; забыт был тяжелый для нас 1915 год, когда мы, не имея боевых припасов, бросали навстречу врагу сотни тысяч полувооруженных людей и тем приковали к нашему фронту значительные силы врага во время верденских боев {230}; забыто было Брусиловское наступление, обошедшееся нам в 500 тысяч выбывшими из строя, но спасшее Италию, бывшую на краю гибели; забыта была, наконец, и доблестная служба не покинувших свои знамена людей из наших войск, бывших на французском фронте, из которых был сформирован особый легион; последние, пожалуй, менее других испытывали горькое чувство незаслуженного недоверия, скажу даже больше – презрения, так как немного их осталось на свете, сложив свои кости за чужое уже для них дело, исключительно во имя воинской чести.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: