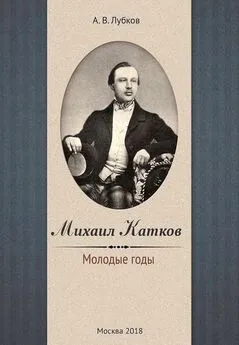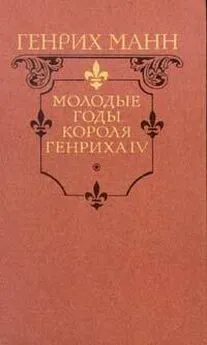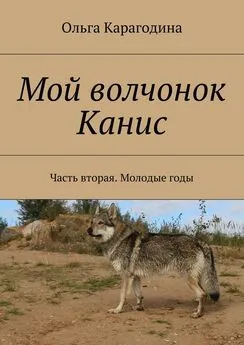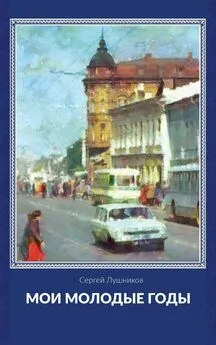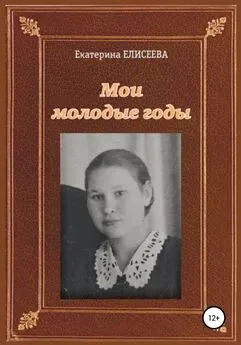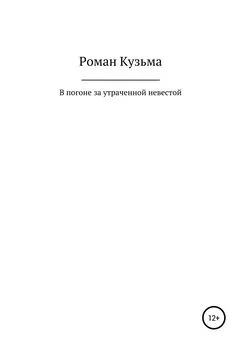Алексей Лубков - Михаил Катков. Молодые годы
- Название:Михаил Катков. Молодые годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:МПГУ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4263-0641-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Лубков - Михаил Катков. Молодые годы краткое содержание
Особый интерес вызывают годы становления его личности, время, когда человек делает внутренний выбор, обретает себя. Читатель имеет возможность познакомиться с миром мечтаний, романтическими привязанностями и кругом друзей и товарищей М. Н. Каткова. Со страниц книги перед нами предстают живые образы видных деятелей русской культуры, поэтов, писателей, ученых и журналистов, повлиявших на жизненный выбор и мировоззрение будущего публициста и идеолога российской государственности.
Издание приурочено к 200-летию М. Н. Каткова и адресовано широкой читательской аудитории.
Михаил Катков. Молодые годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Особенно замечательно в нем было то, что его артистические наклонности и литературные занятия не отвлекали его от тесной практической сферы, в которой он жил. Еще при жизни отца, в лучшие годы своей молодости, он был главною опорой торгового дома, который вел обширные дела. По целым дням просиживал он в своем торговом амбаре, и только дорогие часы праздничного досуга мог посвящать умственным интересам, владевшим его душой. <���…> Он играл немаловажную роль в развитии многих деятелей нашей литературы, уже записанных в ее историю. Довольно назвать Белинского, довольно припомнить Кольцова. Приятно бывало встречать его одобрение, и всякий успех его друзей получал для них новую цену от его ласкового привета. Он, конечно, не был безошибочен в своих суждениях, но у него выработалось верное чутье, которым он во всяком деле удачно распознавал чистое золото от подделки» [171] Катков М. Н. Василий Петрович Боткин // Катков М. Н. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. СПб., 2010. С. 626–627.
.
Осознание бесценного богатства человеческой личности, ее вечной потребности в творчестве, в постижении высоких истин было важным открытием молодого Каткова. Да и он сам в оценке его товарищей уже в то время притягивал к себе друзей своими выдающимися способностями. О сложном, смешанном одновременно с восхищением и ревностью отношении Белинского к Каткову мы расскажем ниже.
А для понимания Каткова Бакуниным имеет значение письмо последнего, с которым он обратился к своему прежнему товарищу из сибирской ссылки (Томск, 21 января 1859 года). Оно навеяно былыми воспоминаниями о человеке, сыгравшем в его судьбе очень неоднозначную роль и обладавшем удивительным сочетанием самых разнообразных и редких качеств личности: «Вы, как артист по душе, Вы находите особенное удовольствие в изыскивании тонких, профанам незаметных черт, составляющих как бы душевные нервы предмета, в них угадываете его существо и жизнь, как артист находите в таковом разрабатывании предмета неизъяснимое наслаждение и до того увлекаетесь своим тонким анализом, удовлетворяющим эпикурейско-эстетические требования Вашей художнической натуры, что не замечаете, что вокруг Вас перестают понимать, потому что немногие в состоянии за Вами следовать и забываться в отвлеченном созерцании тонкостей жизни и красоты предмета. В Вас иногда художник мешает политику» [172] Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем: В 4 т. Т. 4. М., 1935. С. 291.
.
Спустя десятилетия Бакунин, пытаясь возобновить отношения с уже влиятельным и авторитетным издателем и журналистом, приводит наиболее яркое, выразительное и характерное в прежнем, молодом Каткове, что осталось навсегда в памяти. Нет оснований подозревать Бакунина в неискренности, лицемерии или преувеличении. Его наблюдения и оценки раскрывают утонченность души Каткова, склонность к философии и лирике. Современникам уже тогда были известны переводы Каткова не только трудов немецких философов, но и произведений классиков европейской литературы, в частности Гейне, Гофмана и Шекспира.
Михаил Осипович Меньшиков (1859–1918), публицист и последователь Каткова, отзывался о значении кружка Станкевича в общественной жизни России и жизни своего идейного учителя: «В ближайшем общении с философской литературой Запада эта дружина пламенных и чистых душ создавала новое сознание общества, организовала как бы новую общественную совесть. <���…> Если Катков впоследствии разошелся, и подобно Достоевскому — с большой резкостью, с членами станкевического кружка, зато он мог сказать, что всех их хорошо знал еще в их зачатии, всех изучил в натуре. По таланту и образованию Катков был не в хвосте кружка, а по характеру превосходил многих товарищей. Он не довольствовался, как Белинский, „схватыванием“ философских тезисов из устной передачи более просвещенных приятелей. Он сам был „более просвещенным“, углубляясь в первоисточники тогдашней философии» [173] Меньшиков М. О. Выше свободы: Статьи о России. М., 1998. С. 396–397.
.
Историк русской мысли В. В. Зеньковский в своем фундаментальном исследовании считает главным содержанием философских исканий кружка Станкевича «идею личности». «В фихтеянстве для Станкевича и его друзей, — пишет Зеньковский, — была очень дорога идея личности и притом в ее укорененности в трансцендентальной сфере — что открывало для них всех возможность освобождения от романтического субъективизма.
Именно этот момент объясняет нам тот парадокс в диалектике развития всей группы Станкевича, что к Гегелю они приходят от Шеллинга через фихтеянство. Но всё это менее парадоксально, чем может показаться сразу. Шеллингом увлекались у нас раньше в его натурфилософии и эстетике; группа же Станкевича, хотя и увлекалась (слегка) натурфилософией Шеллинга и связыванием истории с природой, — а также и эстетикой, но больше всего его трансцендентализмом. С другой стороны, учение о личности, вообще очень слабое у Шеллинга, не могло быть развито на почве шеллингианства — в силу чего Станкевич в этот период и возвышал над философией религию» [174] Зеньковский В. В. История русской философии. Т. I. Ч. 2. Л., 1991. С. 45.
.
Для Каткова процесс осмысления достоинств и недостатков трудов немецких философов с их абстрактными и отвлеченными теориями и логическими схемами только начинался. Но «идея личности» была ему чрезвычайно близка и в философском, и в практическом плане. Перед ним разворачивалась полная подлинных страстей и взлетов драма жизни. И в ней он был не просто внимательным зрителем, а активным действующим лицом — одним из основных персонажей. Его притягивала и манила сложность и глубина человеческой индивидуальности. Ее симфония и метафизика, ее взлеты и падения. То, что позднее получило развитие в персонализме Ф. М. Достоевского, Н. А. Бердяева, Л. П. Карсавина. То, что впервые получило развернутое выражение в эстетических взглядах В. Г. Белинского. И то, что являлось предметом особого внимания в русской культуре XIX века.
В. В. Зеньковский характеризовал это течение русской мысли как эстетический гуманизм, как основной принцип русского секуляризма. «В этом его движущая и вдохновляющая сила, — писал он, — и в этом же притягательность его для тех русских мыслителей, которые движутся в линиях секуляризма и решительно отделяют религиозную сферу от идеологии, от философской мысли. У многих представителей этого течения мы встречаем подлинную и глубокую личную религиозность, которая кое у кого сохраняется на всю жизнь, — но это не мешает им вдохновляться началами автономизма, развивать свои построения в духе секуляризма» [175] Там же. С. 42.
. Именно секуляризм, или попытка ответить на волнующие вопросы действительности в отрыве религиозно-духовной традиции, вызывал отторжение у Константина Аксакова. Он порвал свои отношения с кружком Станкевича и по этой причине. В конце концов к разрыву с ними пришел и Катков.
Интервал:
Закладка: