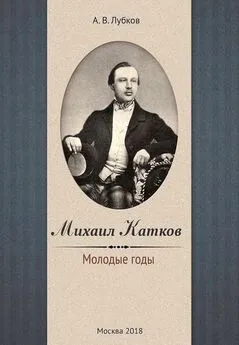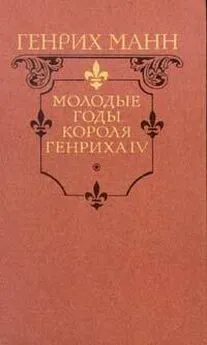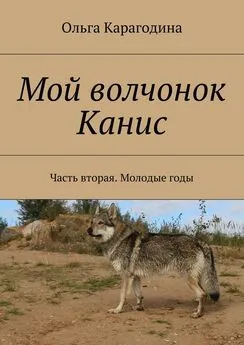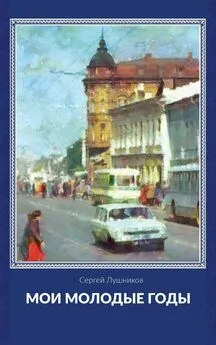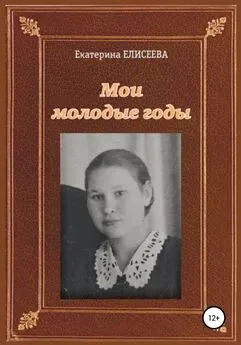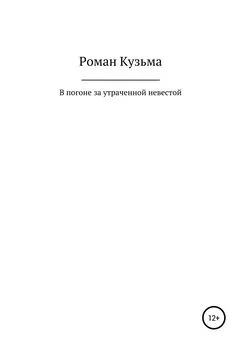Алексей Лубков - Михаил Катков. Молодые годы
- Название:Михаил Катков. Молодые годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:МПГУ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4263-0641-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Лубков - Михаил Катков. Молодые годы краткое содержание
Особый интерес вызывают годы становления его личности, время, когда человек делает внутренний выбор, обретает себя. Читатель имеет возможность познакомиться с миром мечтаний, романтическими привязанностями и кругом друзей и товарищей М. Н. Каткова. Со страниц книги перед нами предстают живые образы видных деятелей русской культуры, поэтов, писателей, ученых и журналистов, повлиявших на жизненный выбор и мировоззрение будущего публициста и идеолога российской государственности.
Издание приурочено к 200-летию М. Н. Каткова и адресовано широкой читательской аудитории.
Михаил Катков. Молодые годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подчеркнем, преподавательская деятельность Каткова приходилась на время расцвета Московского университета. Люди различных взглядов, научных подходов были увлечены наукой и увлекали ею студентов [396] Научная деятельность молодых ученых была связана, среди прочего, с их участием в работе Общества истории и древностей Российских. Погодин также рекомендовал Каткова и других представителей молодого поколения для возобновления деятельности Общества любителей словесности. См.: М. П. Погодин — С. П. Шевырёву, 1846 г. // Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина: В 22 кн. Т. 8. СПб., 1894. С. 486.
. Все они, фактически одного возраста, имели опыт обучения за границей — неудивительно, что из этих преподавателей составился кружок: медиевисты Т. Н. Грановский и П. Н. Кудрявцев, специалист по русской истории С. М. Соловьёв, философ М. Н. Катков и многие другие. Среди них был человек, которого современники называли alter ego Каткова, — «духовно слившийся с Катковым воедино» [397] См., например: Мещерский В. П. Мои воспоминания: В 3 ч. Ч. 1. М., 2003. С. 163.
П. М. Леонтьев.
Скажем несколько слов о нем, тем более что впоследствии именно он станет той «дверью» в мир Каткова, его доверенным лицом, через которого решались практически все вопросы, как бы то ни было касающиеся литературной или общественной деятельности Каткова. «И сердце для того было у него особенное, сердце страстно любящей матери такою безграничною любовью, которая, по-сказанному, сильнее смерти. И действительно, он за друга своего готов был пожертвовать жизнью и дрался на дуэли; больше того: он не раз жертвовал за него своею честью, своим добрым именем, что для благородных натур дороже жизни. <���…> В такой неслыханной его преданности страстная любовь неразрывно переплелась с яростною злобою беспощадно поражать врагов, которые осмелятся поднять руку на драгоценный предмет этой дружеской преданности. <���…> С таким нежным и мягким сердцем соединял он крепкий ум, вполне математический. <���…> Он и говорил ясно и четко, с выдержкою и расстановочно, будто нанизывает бисеринки одну за другую, так чтобы слушающий усвоял каждую поодиночке и слагал себе целую нить» [398] Буслаев Ф. И. Мои досуги: Воспоминания. Статьи. Размышления. М., 2003. С. 314–315.
.
Павел Михайлович Леонтьев родился в Туле в 1822 году, получил первоначальное образование в родном городе, к поступлению в университет готовился в Московском дворянском институте. Именно здесь он познакомился со знаменитым профессором Московского университета Дмитрием Львовичем Крюковым, который преподавал в Дворянском институте латынь. Крюков обратил внимание на талантливого юношу. По его совету Леонтьев, делавший прекрасные успехи в латыни, стал изучать древнегреческий. Привлекала молодого человека и математика. Леонтьева заметил граф Строганов, «постоянно следивший за успевающими не только в университетах, но и в гимназиях» [399] Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета: 1755–1855. М., 1855. Ч. 1. С. 454.
, к тому же Леонтьев окончил Дворянский институт первым учеником. Строганов, как всегда, не ошибся, увидев в юном даровании способности к изучению классической древности. По совету попечителя Московского учебного округа Леонтьев поступил на первое, то есть словесное отделение университета, где под руководством профессора Крюкова углубился в изучение греческой и римской классики.
Знакомство Каткова и Леонтьева, вероятно, произошло в середине 1840-х годов. Вернувшись из учебной поездки в Европу, Леонтьев был определен на должность адъюнкта по кафедре римской словесности и древностей, а после защиты магистерской диссертации «О поклонении Зевсу в Древней Греции» (1850) получил должность экстраординарного профессора. Он преподавал древнегреческую и древнеримскую филологию, читал курсы, посвященные языческим религиям Древнего Востока, Греции и Рима, античной археологии. Мифология не случайно попала в поле научных интересов Леонтьева. Теория мифа была многим обязана Шеллингу, заслуги которого в осмыслении мифологии как явления признавал, например, критически настроенный к шеллингианству Энгельс. На кафедре философии в Берлине Шеллинг читал специальный курс по мифологии. Именно Шеллинг, как считал Леонтьев, осветил и сделал привлекательной науку, «прежде того покрытую мраком непонятности» [400] Леонтьев П. М. О поклонении Зевсу в Древней Греции. М., 2012. Предисловие. С. VII.
.
Леонтьев производил впечатление «чрезвычайно сведущего, дельного и основательного преподавателя» [401] Георгиевский А. Мои воспоминания и размышления // Русская старина. 1916. Т. 165. № 3. С. 455.
, уделял значительное внимание методологии науки и всеобъемлющему обзору ее достижений, «энциклопедии», по тогдашнему выражению. По своим научным интересам он, несомненно, стоял близко к кругу Грановского. Но по этим формальным признакам зачислять Павла Михайловича в западники значило бы исказить истинное положение вещей. Его позиция была, как и у Каткова, сложнее — попыткой пройти посредине противостояния двух направлений.
Классическое образование было, по его мнению, неразрывно связано с европейскими началами, а те, в свою очередь, с народностью: «для блага России желательно, чтобы они шли рядом, не исключая одно другого, и чтобы та враждебность, которая могла произойти вначале, прекратилась как можно скорее». Классическая образованность сделала «гуманным человека нового времени и продолжает его питать вечно свежими соками из того мира, который весь был изящен». Европейская образованность «есть результат предшествовавшей истории рода человеческого», а народность «составляет условие жизни и всякого самостоятельного движения между народами».
«Систематически унижая наше прошедшее, мы тем унижаем и наше будущее, — продолжал свою мысль Леонтьев. — Смотря с аристократическою улыбкою на прочих славян, мы или смеемся над нашей собственною натурою или страждем ребяческою гордостью. <���…> Можно надеяться, что и наш народ всё с большим и большим участием будет обращаться на изучение русского и славянского мира, чтобы найти в первом основу, во втором, так сказать, поверку и ободрение своей будущей деятельности. <���…> Истинно народное направление не отвратит нас от изучения Западной Европы; напротив, оно приведет к основательному изучению, потому что при народном направлении полузнакомство не может иметь никакой прелести и никакого значения. Народность, основывающаяся на взглядах, как и всё, что основывается только на теории, ведет к нетерпимости, к страсти. Народность, основанная на изучении, не исключает никакого изучения и не удерживает нас от верной оценки древнего и новоевропейского быта» [402] Леонтьев П. М. О классицизме, европеизме и народности. М., 1847. С. 4–6.
.
Интервал:
Закладка: