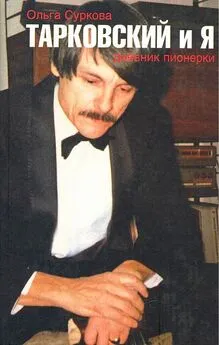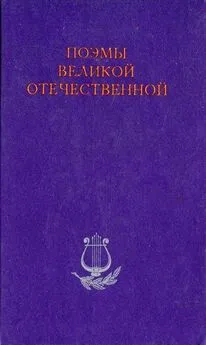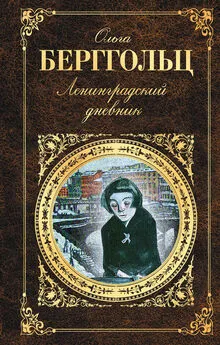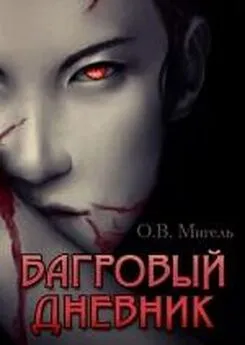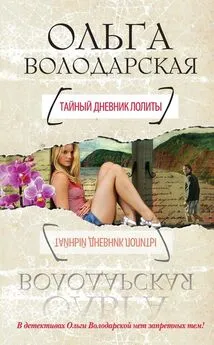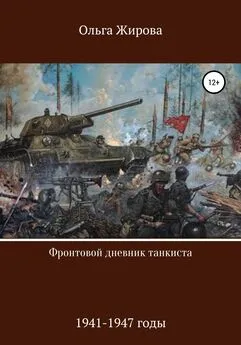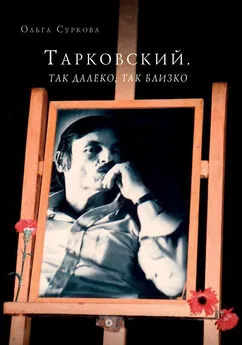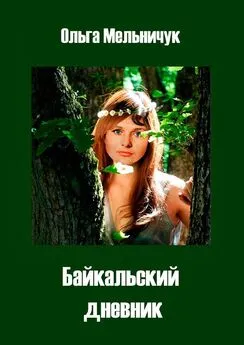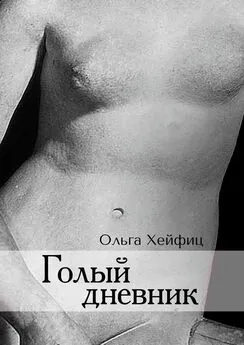Ольга Суркова - Тарковский и я. Дневник пионерки
- Название:Тарковский и я. Дневник пионерки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Зебра Е, Деконт+, Эксмо
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-89535-027-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Суркова - Тарковский и я. Дневник пионерки краткое содержание
Суркова была бессменным помощником Андрея Тарковского в написании его единственной книги «Книга сопоставлений», названной ею в последнем издании «Запечатлённое время». Книга «Тарковский и Я» насыщена неизвестными нам событиями и подробностями личной биографии Тарковского, свидетелем и нередко участником которых была Ольга Суркова.
Тарковский и я. Дневник пионерки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но тогда Андрей был влюблен без памяти и с радостной убежденностью выговаривал:
И оттого двоится
Вся эта ночь в снегу,
И провести границы
Меж нас я не могу.
А затем произносил, наконец, последнее четверостишие декламационно точно, констатируя еще очень далекое будущее, как будто не имевшее ко всем нам пока еще никакого отношения:
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?
Как молоды мы были, полагая, что только начинаем свой жизненный путь, и самое главное, что конец его, а тем более «пересуды» о нем еще где-то очень далеко, за невидимым пока горизонтом. Но как, в сущности, быстро потом все скрылись за ним, а «пересуды» остались…
На съемочной площадке Андрей, безо всякого преувеличения завораживал не только меня, но, кажется, всех своих сотрудников, работавших с упоением. Вспоминаются сирые, темные, зимние Суздаль, Владимир и их окрестности, на фоне которых мы сами пламенели внутренним несгораемым светом. И снова такие щемящие русские бедные пейзажи исхода зимы с подтаявшим местами снегом, когда снималась «Голгофа»…
И Он, Иисус, за которым через простое село, за Него, изнемогшего, понесут Его Крест. И не яростная раскаленная ненавистью толпа будет неистовствовать вокруг, требуя без сомнений «распни, распни Его», а кучка нищих тихих оборванцев обречено проследует за Ним до «русской Голгофы», лишь робко уповая на Спасителя этой Богом забытой земли.
Рублевского Христа по Тарковскому распинают одного, на заснеженном холме, близ белокаменных стен русского монастыря. И Он, совершая туда последний путь, в холщовом крестьянском рубище, легко, точно по воде ступает по земле, раскисшей от тающего снега. А за ним тянутся крестьяне, Богоматерь и Магдолина в таких же отсыревших лаптях и отяжелевших, подмоченных снизу бедных зипунах. И та же светлая девочка, замотанная платком, провожает его последним солнечным взглядом. Как милосерден Лик этого Христа, поскользнувшегося на склоне холма и утоляющего в это последнее мгновение предсмертную жажду снегом. Он подносит его к губам, посылая всем, кто остается на этой земле, свой последний долгий взгляд, любящий и сострадающий, но проницающий, увы, насквозь и вперед всю тщету человеческих усилий последовать за Ним, отрекшись от всех своих мирских притязаний.
«Голгофа» Тарковского начинается с крупного плана проруби, из темной, холодной глубокой воды которой всплывает пелена… Помню, как Тарковский сам, собственными руками «прилаживал» в соседней проруби какое-то полотенце, «тряпицу», которая по его воле должна была как будто «невзначай», по течению, всплыть именно там, где наклонится Иисус. Такую «мелочевку», как одушевление жизни, Тарковский не любил доверять другим, радуясь, как ребенок, перевоссозданию на экране реальности.
Тарковскому очень нравилось почти иконописное лицо Тамары Георгиевны Огородниковой: прямой нос, очень выразительные, глубоко посаженные большие глаза. И он уговорил ее сняться в образе Богородицы. И лицо, преображенное гримером в лик, несколько раз возникало в кадре на крупном плане в ритмах, точно рассчитанных на съемках и монтаже дирижерскими взмахами Тарковского… Ее последний, скорбный и тихий, затаившийся в страдании материнский взгляд не разлучался с сыном, предаваемым мучениям…
Конечно, не совсем точно утверждать, что период работы над «Андреем Рублевым» был только безоблачным. Или совсем неточно. Проблемы витали рядом и не давали расслабиться. Замечания по просмотренному материалу в Госкино и на студии, вызовы Тарковского «на ковер», а главное — недостаточная смета, выделенная на картину, требовала сокращения сценария, который никаким образом не вмещался даже в двухсерийный метраж. Тем более, что Тарковский снимал в тех раздражающих, с точки зрения начальства, «затянутых ритмах», которые как раз для него были принципиально важны и адекватны его собственному художественному мировосприятию.
Этот неторопливый ритм и очень ослабленная пружина действия стали, как мне кажется, основным поводом разногласия Тарковского с его соавтором по сценарию Андроном Кончаловским. Не принимая возражений Кончаловского, уже не разделявшего его взглядов на саму природу кинематографа, Тарковский позднее усматривал в конечном его неприятии «Рублева» конъюнктурное приспособленчество или, попросту, зависть.
Теперь, когда творческие биографии обоих режиссеров уже сложились, можно с полной уверенностью утверждать, что Кончаловскому по существу была противопоказана кинопоэтика Тарковского. Кончаловский, в конце концов, ориентировался на широкий зрительский успех, предполагавший яркие зрелищные формы повествования с укрупненными событиями, пружинящим действием, ярко прописанными характерами. Он совершенно искренне и во благо своему пониманию профессии сопротивлялся надменному нежеланию Тарковского идти на «уступки» публике.
В интервью, которое мне пришлось брать у Кончаловского много лет спустя в Амстердаме после премьеры его фильма «Любовники Марии», он дал исчерпывающий ответ на этот вопрос: «„Ностальгия“ Тарковского вступает в смертельную схватку со зрителем. Такое ощущение, что он положил голову на рельсы перед несущимся на него поездом и ожидает, что же за этим последует? Для меня этот вопрос снят, потому что ответ на него ясен, и я не стану класть свою голову на рельсы»…
Что говорить? После стольких лет моей жизни на Западе, после стольких последовавших в России перемен в так называемой культурной жизни и просвещении, я понимаю, наконец, во что и ради чего вкладываются деньги в искусство или то, что им называют, и предлагают для насыщения не зрителю или читателю, а потребителю. А тогда… Тогда мы были наивны, как дети, полные только святого негодования по поводу упорного нежелания Госкино оплатить «Андрея Рублева» гораздо более щедро. Плевали мы на глупые «идеологические» заказы. Наша задача была вне и выше всяких идеологий. Для нас она была очевидно культурно-значима, а какие-то идиоты этого не желали понимать ни в какую — а ведь какие огромные деньги, к нашему недоумению, вкладывались в какие-то «дурацкие» государственные заказы!
Для их выполнения выделялись целые армейские части. Но разве всегда окупались кассово «идеологически-важные» супер-колосы? Тем более сомнительна была для нас их идеологическая необходимость и очевидно более низкое художественное качество. Нам все было ясно тогда, когда Тарковского продолжали упрекать в «элитарности» и невостре-бованности его картин широкой аудиторией. Этот упрек был равен опасной идеологической наклейке и воспринимался им всегда с дрожью душевной. Тем более, что он сам к тому же совершенно искренне верил, что работает как раз для того самого «народа», который прямо-таки рвется посмотреть его картины. Кстати, это вполне соответствовало действительности именно потому, что их не пускали в широкий прокат. На самом деле у Тарковского, конечно, был свой собственный благодарный зритель, ожидавший его картин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: