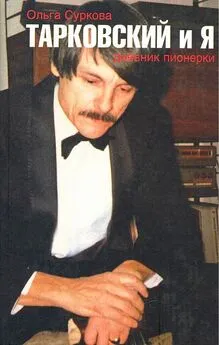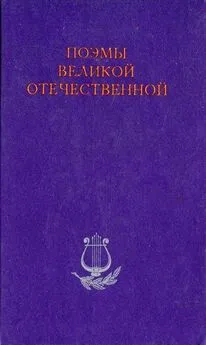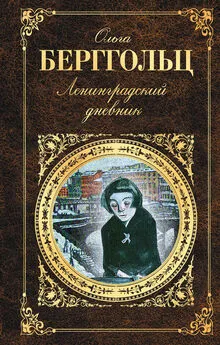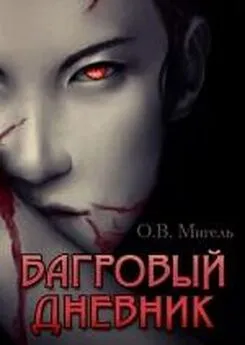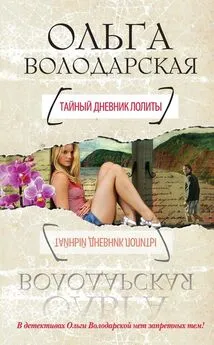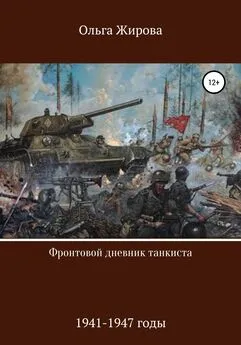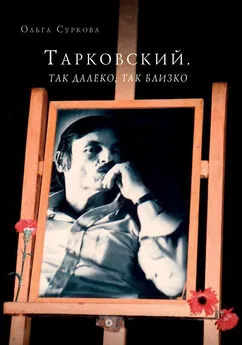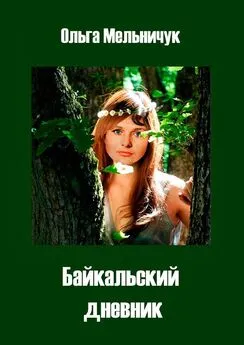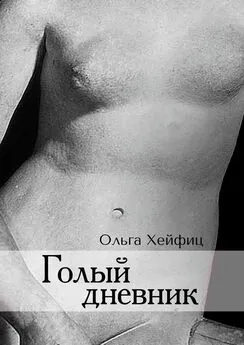Ольга Суркова - Тарковский и я. Дневник пионерки
- Название:Тарковский и я. Дневник пионерки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Зебра Е, Деконт+, Эксмо
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-89535-027-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Суркова - Тарковский и я. Дневник пионерки краткое содержание
Суркова была бессменным помощником Андрея Тарковского в написании его единственной книги «Книга сопоставлений», названной ею в последнем издании «Запечатлённое время». Книга «Тарковский и Я» насыщена неизвестными нам событиями и подробностями личной биографии Тарковского, свидетелем и нередко участником которых была Ольга Суркова.
Тарковский и я. Дневник пионерки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Более того, Тарковский настаивал — именно на этой идеологически выверенной формулировке — «НАРОД»! Развивая далее свою защиту не только перед обвинителями в начальственных кабинетах, но, как ни странно и перед самим собою. Например, работая потом над «Книгой сопоставлений», он неоднократно говорил, недоуменно пожимая плечами: «Не понимаю их… А кто же я сам, как не частичка этого народа? И каким образом, будучи этой частичкой, я могу не быть его „гласом“, удивительно, а? А как же еще? Даже если ко мне прислушивается небольшое количество людей. Ну, и что? Значит именно я им все равно нужен»… Так что непонимание всякий раз он воспринимал очень болезненно и свято верил в достаточно обширную собственную аудиторию. Представьте, что идея «слоновой башни» — была, как ни странно, не из его этического арсенала. Может быть, он наследовал подлинно демократические идеи от своих благородных предков, жаждавших хождения в народ. Может быть, от тяготения к этому народу возникла и Лариса Павловна со всем ее семейством, очень далекая от интеллигенции?
То есть, как бы то ни было, но, сопротивляясь официальным обвинениям, Тарковский выработал в себе для борьбы с начальством доступную им, хрестоматийно известную, но, казалось бы, вполне логичную систему аргументов. Настаивая на своем человеческом, гражданском и художническом праве высказываться на своем собственном языке, он, в конце концов, настаивал на суверенном демократическом праве не только большинства, но и отдельно взятой личности. Он откровенно рассчитывал «законно» прописать и приспособить это право к эстетике соцреализма. Ну, чем все это не «социализм с человеческим лицом»? Хотя само дарование, конечно, вырывало Тарковского далеко за пределы всяких канонизированных социализмом эстетических и идеологических норм…
Тем не менее, как мне кажется, желанием оправдаться и настоять на своем собственном праве на свободу, незамутненную никакими идеологическими диверсиями, продиктованы многие мои интервью с ним, ставшие потом страницами «Книги сопоставлений». А что такое вообще, так называемая, «свобода», как ни свод правил, которым мы, в конце концов, следуем, «свободно» принимая на себя те или иные нормы поведения и форму мысли… Подводя сегодня некоторые итоги своего жизненного пути, я вынужденно возвращаюсь к школьной хрестоматии, обращавшейся к простой и безупречно точной мысли наших марксистских классиков: оказывается, и впрямь «нельзя жить в обществе и быть свободной от этого общества»…
Но, возвращаясь более конкретно к «Рублеву», должна сказать, что самой большой и принципиальной потерей для картины Тарковский всегда считал отсутствие в ней «Куликовской битвы». Деньги для этого пролога нужны были немалые, и Тарковский неоднократно бился за них «до кровян-ки». Ему казалось, что с этим задуманным еще в сценарии прологом с картины снимались бы многие обвинения. Именно Куликовская битва, по его убеждению, должна была дать картине тот необходимый ей исторический и идеологический камертон, который точнее определял бы пафос дальнейшею повествования.
Сама я нежно люблю существующего «Андрея Рублева», но полагаю, что с Куликовской битвой мы имели бы — не знаю хуже или лучше — но почти другую картину. Эта рана не зажила у Тарковского никогда. Он никогда не мог простить, что «зеленая улица» огромных льготных средств, открывавшаяся, например, Бондарчуку, была ему заказана… А все его усилия в этом направлении были тщетны…
В Тарковском оставалось много того азартного и детского, о котором он пишет в своих воспоминаниях. И ему самому часто хотелось, как в азартной игре, опробовать любые, не всегда безопасные возможности. По легенде, сохранившейся в съемочной группе, я слышала, в частности, о том, как Тарковского понесла лошадь, на которой он решил погарцевать сам во время съемок. Падение, слава Богу, не стоило ему жизни, но рассказывали, что он был очень плох…
Лариса Павловна тоже не была буквальным свидетелем этой истории, и суеверные русские полагали, что опосредованной виною случившегося было ее отсутствие. Градус взаимоотношений Андрея с Ларисой Павловной был так высок к этому моменту, что, как рассказывала вполне сдержанная и не склонная к бабским сплетням Огородникова, он буквально физически заболевал, если она отлучалась по каким-то делам в Москву. Съемки отменялись, и Тамара Георгиевна, директор картины, человек экономически ответственный за ее производство, телеграфировала Ларисе, чтобы она немедленно возвращалась.
А Лариса боролась за Андрея, закусив удила — никаких моральных пределов не существовало. Она не сомневалась сама и внушала другим (мне лично, по крайней мере, весьма успешно), что Ирма Рауш, его жена и мать его ребенка, для него не годится, эксплуатирует его талант, слишком суха и эгоистична, не любит его и не ценит… А когда она появлялась на съемках, то Лариса беззастенчиво рвала все и всяческие постромки. Я никогда не видела Ирму Рауш, и была прямо-таки поражена ее несхожестью с Ларисой, когда судьба свела нас в Москве все на тех же Первых интернациональных чтениях. Передо мной сидела умная, строгая, интеллигентная женщина, до стиля и уровня которой Ларисе нужно было бы шагать и шагать… Может быть, она ставила слишком высокую планку Андрею, которая могла отчасти изменить в деталях его картины? А Лариса только кудахтала о его гениальности, подгребая под себя все дивиденды. Боже мой, как она сумела использовать его имя в своих шкурных и таких земных интересах! Глядя на Ирму, я легко представляла себе, что ей даже в голову не приходило разглядеть в Ларисе соперницу хоть в какой-то мере — это как соизмерить несоизмеримое. Ларисины методы были не для нее. Но глядишь ты… Хотя почему-то считается, что «победителей» не судят или «о мертвых плохо не говорят»…
Я так не думаю. Как говорится, все там будем. А для верующего человека только Там начнется подлинный суд, независимый от званий. А здесь мертвые продолжают жить рядом с нами, оставив нам после себя разнообразный груз, который мы продолжаем перебирать столько времени, сколько нам отпущено, разбираясь в себе и тщетно пытаясь расставить точки над i.
Но тогда Лариса с торжествующим волнением описывала мне, еще не слишком искушенной девице, ситуации, из которых она всегда выходила победительницей, а я слушала ее с восторгом, как говорится, развесив уши… Теперь многое, конечно, забылось, но помнятся истории о том, как Лариса в окружении мужиков из съемочной группы практиковала свои вечерние выходы в ресторан, где Андрей высиживал свою вынужденную повинность с законной женой, сгорая от ревности. Вся обслуга в ресторане ее знала — она была «их» и из их среды — для нее начинал греметь оркестр и, оттанцовывая, она неизменно становилась царицей провинциального бала. Поразительно, что Андрей буквально сходил с ума — по словам Ларисы, не выдержав однажды этой экзекуции и сгорая от ревности, сильно напившись, он раздавил у себя в кулаке стакан, так что осколки врезались ему в ладонь. Случалось, опять же по ее словам, что обессиленный ее выкрутасами он начинал сдирать в ресторане занавески с окон.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: