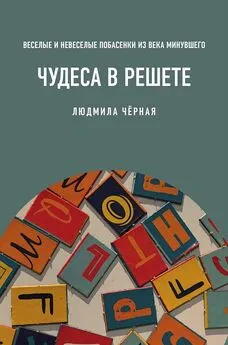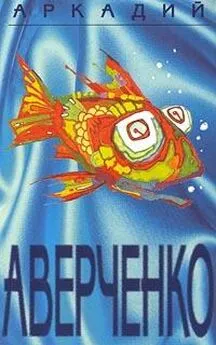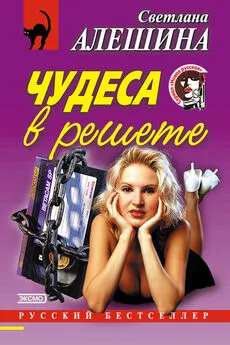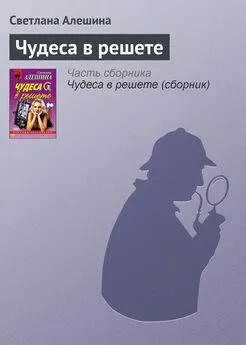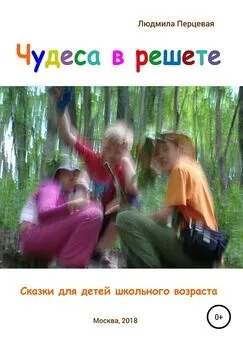Людмила Черная - Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
- Название:Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1650-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Черная - Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего краткое содержание
«Теперь мне 103. Вышли в свет две мои толстые книги. Пишу третью, хотя не уверена, допишу ли. Когда работаю, рука не дрожит. А когда раз в три месяца помощница Лена привозит меня в Сбербанк и надо расписаться за пенсию, руки начинают дрожать… Чудеса…»
Возможно, разгадка удивительной душевной молодости Людмилы Чёрной — в ее захваченности, очарованности жизнью и в самодисциплине. Высказываемые в книге суждения и оценки порой звучат вызывающе остро — тем интереснее знакомиться с образом мыслей автора и ее восприятием текущих событий. Перед нами не только свидетельство ровесницы «короткого XX века», но и, по выражению Н. С. Лескова, феномен «уходящей натуры».
Людмила Чёрная (р. 1917) работала журналисткой-международницей, переводила художественную литературу (Г. Бёлль, Э. М. Ремарк, А. Дёблин, Ф. Дюрренматт). Вместе с мужем, историком Д. Е. Меламидом, исследовала нацистский режим в Германии и написала книгу о Гитлере «Преступник номер 1». Издала в «НЛО» книгу мемуаров «Косой дождь» (2015) и публицистический сборник «Записки Обыкновенной Говорящей Лошади» (2018).
Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В предисловии к книге ажаевских сочинений, где был напечатан «Вагон», Симонов вообще сваливает вину за фальсификацию на одного только автора. Будто бы перед тем, как готовить к печати роман «Далеко от Москвы», он задавался вопросом: «А зачем Ажаев писал свой роман, зная, что он не напишет о заключенных всей правды, о которой все равно сказать не может? Я бы так ответил: „Очевидно, Ажаев испытывал глубокую внутреннюю потребность в той или иной форме написать о том, чему он был участником и свидетелем, о людях, которые тогда, в военные годы, построив этот нефтепровод, совершили, казалось бы, невозможное. В этой книге он и о заключенных написал как о свободных людях… И сделал это вполне сознательно, желая своим романом поставить памятник их усилиям и мужеству, их преданности Родине“».
Вот, оказывается, в чем дело: Ажаев хотел прославить «преданность Родине» энкавэдэшных узников, а заодно и самих негодяев-энкавэдэшников!
А позже Симонов вообще сделал вид, будто он и его команда всего лишь редактировали сырую рукопись начинающего писателя, так сказать, приводили ее в божеский вид.
Вот, что Симонов написал в 1968 году: дескать он (Симонов. — Л. Ч. ) беспокоился: «…пойдет ли он (автор Ажаев) на такую обширную работу над ней (рукописью)»?
Автор «пошел», оказался «…очень восприимчивым ко всем тем дружеским советам, которые могли помочь ему сделать свой роман более цельным (!), строгим (!) и стройным (!)».
Словом, все дело в стилистике! Молодой писатель не совладал с материалом сам. Он, Симонов, и другие мастера словесности всего лишь помогли ему превратить Савла в Павла.
Ажаев давно забыт. Симонов до сих пор в большом почете.
О фальшивомонетчиках-переводчиках
Если память мне не изменяет, то «социализм в одной стране», или «реальный» социализм, он же «развитой», был построен уже в 1930-е, а после Отечественной войны его только улучшали и совершенствовали.
Одновременно с социализмом существовал и «союз нерушимый республик свободных», которых сплотила «великая Русь».
Что это значит? Это значит, что Русь, то есть Москва, то есть Кремль, сплотил, то есть управлял пятнадцатью союзными республиками, плюс 20 округов. Причем, граждане этих республик, что союзных, что автономных, говорили на своих особых языках. А в Москве, то есть в Кремле, во времена поздней сталинщины и зрелой Брежневщины и русский-то знали с грехом пополам.
Как же ими управлять?
Конечно, русский язык в республиках изучали и распоряжения-команды из Кремля могли выполнять, да и москвичей им все время подкидывали.
Но разве дело только в распоряжениях и командах?
Ведь реальный социализм, а также дружбу народов надо было денно и нощно укреплять, совершенствовать и, выражаясь по-буржуазному, холить и лелеять.
А для этого существовала идеология . Эта матушка идеология, насколько я понимаю, была нужна не только при реальном социализме, но и при всех, я извиняюсь, формациях — что при капитализме, что при феодализме. Особенно она необходима, если в стране плохо с продовольствием.
Идеологию испокон века создавали политики, правоведы, историки, философы, психологи et сetera.
Но зачем СССР политики, если в СССР есть ЦК ВКП(б) — ЦК КПСС? Зачем СССР правоведы-юристы, если в СССР есть прокурор Вышинский, который после пыток добьется любого «признания — царицы доказательств»? Зачем СССР философы, если в СССР есть Маркс — Энгельс и Ленин — Сталин?
Одним словом, вы понимаете, что никаких нормальных юристов и прочих гуманитариев, политиков-историков, в Стране Советов не оказалось. Всех их сгоряча извели еще при Ильиче. Многих «убрали с глаз долой» на философских пароходах, многие сами бежали, не вытерпев голода и унижений.
Идеологию отдали на откуп могучей кучке писателей, которую в 1934 году собрал в один кулак Максим Горький, организовав Союз писателей (СП) со штаб-квартирой в Москве и с отделениями во всех республиках и областях.
И тут необходимо сказать хоть коротко о Максиме Горьком — фигуре мощной и многое определившей в истории Советского Союза.
О Горьком писали все, кто вспоминал о ХХ веке в России. По-моему, из нынешних лучше всех Дм. Быков в книге «А был ли Горький?».
Напишу и я, старуха.
По-моему, Горький не человек, а Оборотень. Красный оборотень.
Его считали выходцем из босяков, а жил он, как большой барин. Числился Горький самым русским из всех русских писателей, а бóльшую часть жизни провел не в Москве, не в Питере, не на Волге, где родился, а в Италии. Не было у Горького вроде бы и семьи (с женой он сразу разъехался), но мы всегда видим его в кругу большой семьи, которая будто бы семья сына Максима. Но вот Максим умер, а семья как была с его отцом, так с ним и осталась.
Выступал Горький от имени революционеров-радикалов, а вел себя, как Уж из своей же «Песни о Соколе», где сказано: «рожденный ползать летать не может».
Горького во всем мире считали певцом бедняков, их другом и советчиком, а был он другом и советчиком тогдашних самодержцев — недолго Ленина (Ленин умер еще не старым), а потом довольно долго Сталина. Как известно, Сталин приходил к Горькому, когда тот уже лежал на смертном одре. Приходил будто бы, чтобы поговорить (скорее покалякать) о том о сем; например, о положении французских женщин-работниц, кажется, в ХIХ веке.
Главный, несмываемый грех Оборотня — это как раз его «дружба» со Сталиным. Он ведь тем самым благословил Сталина на фактическое уничтожение крестьянства в Советском Союзе (Оборотень ненавидел крестьян), благословил и Беломорканал, который построили узники одного из первых, самых жестоких, ГУЛАГов на острове Валаам. Благословил и многое-многое другое, чего благословлять нельзя. И благословил отнюдь не бескорыстно — удостоился за это невиданных почестей.
Я свидетель того, как Оборотня встречали в Москве: Тверская — улица Горького — с трудом вмещала гигантскую толпу народа. Открытая машина, в которой ехал Горький стоя, то и дело прикладывая платочек к глазам, — он плакал от умиления, — с трудом продвигалась сквозь людскую массу…
Мне бы надо Оборотня ненавидеть, ведь в конечном счете он крестный отец Сталина. Но я Горького не ненавижу — наоборот, считаю своим спасителем. Без его помощи я, наверное, вообще не выжила бы. А я не только выжила, но и прожила весьма благополучно и при Брежневе, и при всех прочих генсеках. Ведь это Оборотень придумал: мол, надо объявить писателей «солью земли» и создать для них Союз писателей, дабы их кормить-поить и вдобавок уважать.
В конце прибавлю еще один штрих к портрету Оборотня. Между прочим, он написал роман «Мать». Эту «Мать» изучали в школе и вообще повсюду, где следовало что-либо изучать. Герой «Матери» — простой рабочий Павел Власов — был революционер, и его преследовало царское правительство, судило, угрожало высылкой и тюрьмой. В ответ Павел Власов произносил речи (повсюду, особенно в судах), и, по-моему, речи эти совпадали с речами — кого бы вы думали? Ну конечно, с речами Алексея Навального — и по смыслу, и по смелости, и по пафосу, и даже по выражениям и словам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: