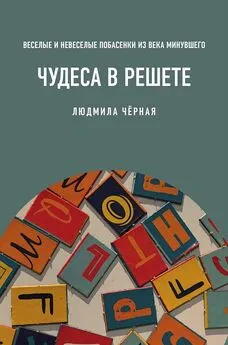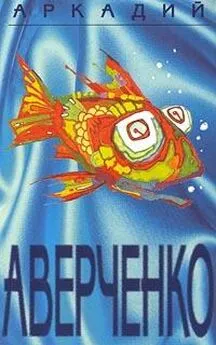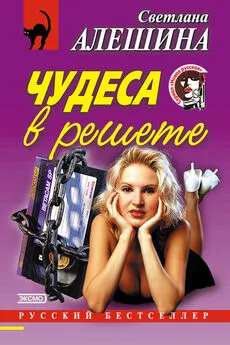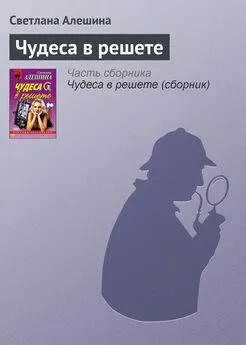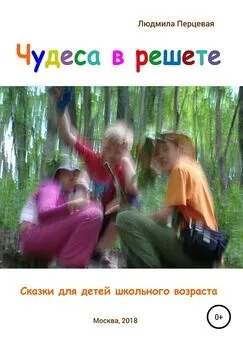Людмила Черная - Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
- Название:Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1650-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Черная - Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего краткое содержание
«Теперь мне 103. Вышли в свет две мои толстые книги. Пишу третью, хотя не уверена, допишу ли. Когда работаю, рука не дрожит. А когда раз в три месяца помощница Лена привозит меня в Сбербанк и надо расписаться за пенсию, руки начинают дрожать… Чудеса…»
Возможно, разгадка удивительной душевной молодости Людмилы Чёрной — в ее захваченности, очарованности жизнью и в самодисциплине. Высказываемые в книге суждения и оценки порой звучат вызывающе остро — тем интереснее знакомиться с образом мыслей автора и ее восприятием текущих событий. Перед нами не только свидетельство ровесницы «короткого XX века», но и, по выражению Н. С. Лескова, феномен «уходящей натуры».
Людмила Чёрная (р. 1917) работала журналисткой-международницей, переводила художественную литературу (Г. Бёлль, Э. М. Ремарк, А. Дёблин, Ф. Дюрренматт). Вместе с мужем, историком Д. Е. Меламидом, исследовала нацистский режим в Германии и написала книгу о Гитлере «Преступник номер 1». Издала в «НЛО» книгу мемуаров «Косой дождь» (2015) и публицистический сборник «Записки Обыкновенной Говорящей Лошади» (2018).
Чудеса в решете, или Веселые и невеселые побасенки из века минувшего - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Посмотрим на них глазами самой Норы: «Она (Нора. — Л. Ч. ) осознала, что все ее родственники делятся на две разные породы: двоюродные братья отца, слегка похожие на ежей растущими вперед со лба жесткими волосами, и бабушкины племянницы — узколицые, глазастые, с треугольными рыбьими ртами». «Сплошной паноптикум». «Я из этой ежиной породы, — подумала Нора и почувствовала какую-то горячую тошноту…» Одним словом, Нору чуть не стошнило, когда она поняла, что похожа на своих родственников.
Ну чем не героиня советских писателей, которая без пап с мамами и без всяких родственников, исключительно с помощью своих товарищей по заводу (колхозу), нигде не учась, ни с кем не считаясь и ни с кем не советуясь, добивается рекордной выплавки стали или рекордного урожая?
Я, конечно, утрирую… Но сознайтесь, читатель, такая тотальная неприязнь к отцу, матери и другим близким людям у положительного героя встречается нечасто.
Пойдем дальше…
Известно, что интеллигенции свойственна рефлексия — грубо говоря, самокопание, недовольство собой, критическое отношение к собственным поступкам, наконец, неуверенность в своих возможностях и талантах и очень часто — угрызения совести.
Естественно, что ничего такого ходульный герой советских книг не испытывал. Он всегда прав. Никогда не ошибается. Его поведение, его отношение к другим людям безупречно. У него даже сомнений не возникает в собственной непогрешимости, не говоря уже об угрызениях совести…
Героиня Улицкой Нора ничем не отличается от этих персонажей.
Она просто упивается своей правотой. Хвалит саму себя… Родила сына от одноклассника, парня, который казался тогда бесчувственным болваном, хотя и способным математиком, а тот стал прекрасным человеком. Терпеть не могла ни отца, ни мать — а они ей очень даже пригодились. Когда она гуляла по разным городам и весям и даже ставила с Тенгизом спектакль в Польше — мать взяла мальчика к своему Андрею Ивановичу, и ребенок у них прекрасно рос и пил козье молоко.
Даже то, что Тенгиз, состарившись, наврал Норе, будто женился вновь после смерти прежней жены, оказалось благом: не пришлось Норе возиться со стариком, с его болячками и, быть может, хандрой… Хотя какая такая хандра? У Норы и у ее возлюбленного хандры не бывает…
В конце романа «Лестница Якова» Нора подводит итоги своей жизни: она всем довольна. Написала книгу о «русском театральном авангарде, которую перевели в том же году на английский и французский». В театральном училище, где Нора читает курс по истории театра и сценографии, стала «кумиром студентов».
Да и «любовные бури… не оставили ни горечи, ни боли»…
Словом, совершенно правильная жизнь самодостаточной женщины. Можно только позавидовать. Ни капли сожаления! Ни капли раскаяния!
Ну а как героиня Улицкой относится к поистине эпохальным событиям ХХ века: к горбачевской перестройке, к революции 1993 года? Все это никак не затронуло ни жизни Норы, ни жизни ее возлюбленного — грузина Тенгиза. Оказывается, перестройки вовсе не было: Нора именует ее… мифической. Так и написано в романе черным по белому: «Мифическая перестройка закончилась вместе с дефолтом 98-го года…»
Но разве это миф, что столь любимая Норой Грузия, хотя и не без крови, и не без потерь, добилась независимости? И разве миф, что независимости добились и Латвия, и Эстония, и Литва? Разве миф, что Горбачев не воспротивился объединению Германии и что немцы стали жить в единой стране? И что в Берлине была разрушена стена, делившая город на две части? И наконец, разве миф, что отошли от сталинской империи, так называемые страны народной демократии. Разве миф, что вслед за Балтией свободными стали многие республики Советского Союза? И что сталинская империя в том виде, в каком ее создал Тиран, рухнула?
Между прочим замечу, что даже злейшие враги Горбачева не додумались объявить мифом Михаила Сергеевича — дай бог ему здоровья в его преклонном возрасте!
Впрочем, называя перестройку и события 1991–1993 годов всего лишь мифом, Улицкая устами своей героини Норы уверяет, будто интеллигенции они решительно ничего не дали — видимо, ничего не дали так называемой творческой интеллигенции…
События 1990-х — революция Ельцина — Гайдара — тоже не коснулись ни Норы, ни ее возлюбленного.
Начнем с Тенгиза. Тенгиз с 13 лет, когда отец ушел на фронт, стал единственным кормильцем большой грузинской семьи. А когда отец вернулся домой, по-прежнему должен был работать по-черному. Видимо, чтобы учиться и вообще набираться ума-разума.
Резюме Норы: «Некогда ему было стать ни советчиком, ни антисоветчиком». И, стало быть, некогда было участвовать в событиях 1990-х годов.
Странно, ей-богу! У академика Сахарова нашлось время выступать в Белом доме, да и повсюду — правда, его до того сослали в Горький, где он и погиб бы, если бы не мифический Горбачев.
Нашлось время и у учеников Сахарова, и у многих тысяч других физиков и лириков, которые выходили на стихийные демонстрации в 1990-х…
Выбрал время на срочный прилет к Белому дому — аж из Лондона — и чрезвычайно занятый Ростропович.
Я уж не говорю о молодом интеллигенте Егоре Гайдаре, который правда, не был режиссером и даже гуманитарием, как Тенгиз и Нора, но, безусловно, происходил из интеллигентной и творческой семьи. У Норы дед Яков был мудрец, великолепно владевший пером, а у Гайдара один дед был прекрасным детским писателем, а другой (Бажов) — журналистом и тоже писателем… Правда, Егор Гайдар, как и отрицательный папаша Норы, Генрих (и что за манера называть отца и мать по имени!), был членом КПСС так же, как и многие его товарищи по реформам! Но и они работали, видимо, не меньше Тенгиза. И все же нашли время. Так же как Буковский — тоже сын гуманитариев, тоже прилетевший из Лондона в Москву, чтобы помочь реформаторам, которые его не послушались…
Однако перейдем к Норе.
Норе, оказывается, перестройка была вообще не нужна, поскольку это ничего не изменило в ней. Ведь Нора со школьных лет испытывала высокомерное презрение к коллективизму и с отвращением относилась к фальшивой идее «общественного», которое выше «личного…».
А теперь приведем цитату из книги Улицкой о перестройке полностью…
«Мифическая перестройка как будто закончилась вместе с дефолтом 98-го года. Да, собственно, оба они, Тенгиз и Нора, с самого начало поняли, что перестройка не имеет к ним никакого отношения. Как оказалось, им нечего было в себе перестраивать, чтобы привести в соответствие вновь разрешенное думание и собственные созревшие мысли». И далее: «Разрешенная свобода, тень ее, не произвела на него (Тенгиза. — Л. Ч. ) никакого впечатления. Нора тоже ее не вполне заметила, в ней было слишком много собственного своеволия…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: