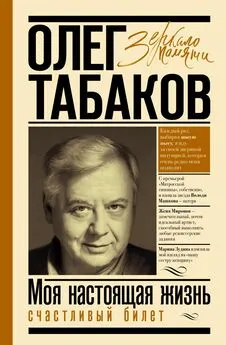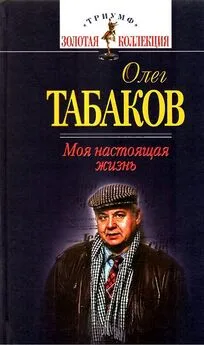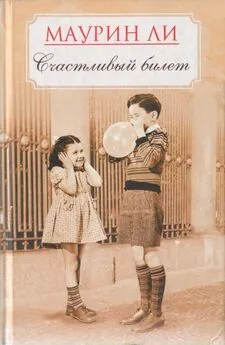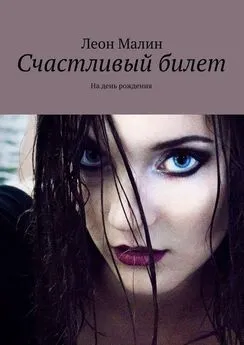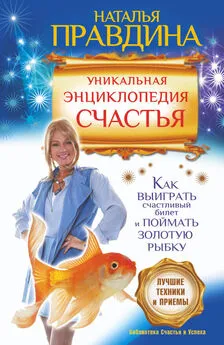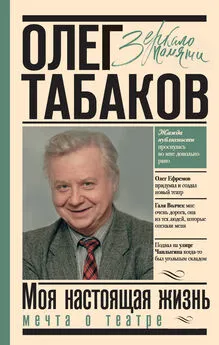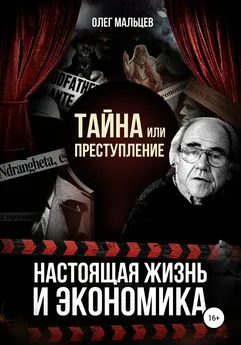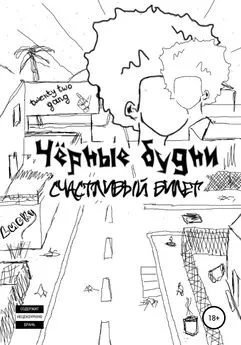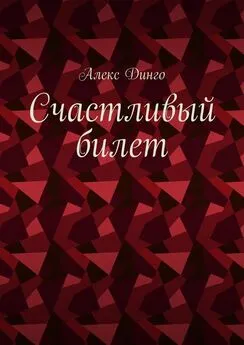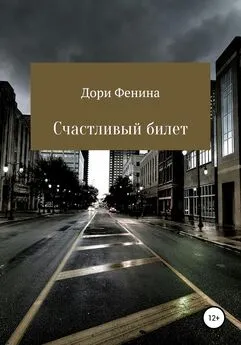Олег Табаков - Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2
- Название:Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2020
- ISBN:978-5-17-132921-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Табаков - Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2 краткое содержание
«Счастливый билет» – это рассказ о постановках легендарной «Табакерки», о новой жизни МХТ им. А.П. Чехова, о творческом становлении известных сегодня актеров – В. Машкова, Е. Миронова, С. Безрукова, А. Смолякова, о сотрудничестве с лучшими режиссерами, и еще много о чем.
Искренне делится Олег Павлович и своими горестями и радостями художественного руководителя одновременно двух театров, за спектаклями и гастролями которых читатель с восхищением следит на страницах книги и не перестает удивляться: как один человек успевал играть, преподавать, ставить и управлять. А еще любить – коллег, друзей, и свою дружную семью, которую ему подарила удивительная женщина, красивая и талантливая актриса Марина Зудина.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Счастливый билет. Моя настоящая жизнь. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Художественном театре создана и работает весьма солидная система, обеспечивающая решение вопросов здравоохранения и социальной поддержки сотрудников театра. Люди получают существенную материальную помощь и на лечение, и на детей (соответственно их количеству), и ко дню рождения, и так далее и тому подобное.
Можно себе представить, что, например, к Георгию Александровичу Товстоногову приходили люди и просили устроить ребенка в детский сад? Нет, нельзя. Даже к Олегу Николаевичу нельзя было с этим прийти. А ко мне можно. Но не потому, что мне нравится этим заниматься, – это порой совершенно непреодолимое для молодых родителей обстоятельство идиотического течения нашей жизни. И в том случае, если у меня есть хоть один шанс, что я сделаю это, я это делаю, вот и все. В этом нет ни героизма, ни поддержки ореола вокруг моей головы. Мне просто нравится помогать людям.
Но и это еще не все. Я придумал довольно простое средство, чтобы напомнить людям, что наша организация – не просто станкопрокатный завод или завод малолитражных автомобилей, а все-таки театральный дом. К праздникам на деньги, которые дают мне богатые люди, просто будучи моими личными друзьями и поклонниками, мы стали раздавать работникам от лица театра так называемые бесплатные «продуктовые наборы»: колбасу, шпроты, баночку икры, водку, еще что-то… Это повергло людей в глубокое раздумье: чего же он потребует взамен? Взамен мне, собственно, ничего не требовалось, потому что я питался нормально, зарабатывал прилично – ставил довольно много за границей, да к тому же в кино снимался.
Заметив однажды, что артисты, которые служат в одной труппе, в силу особенностей своего графика частенько знакомятся друг с другом лично году этак на пятом совместной работы, мы придумали проводить праздники, застолья, на которые приглашаются все. Обычно это бывает дважды в год: на старый Новый год и в конце театрального сезона.
«Во многой мудрости много печали…»
Мартиролог ушедших за двенадцать лет актеров Художественного театра содержит дорогие мне имена.
Сережа Сазонтьев был в какой-то степени моим учеником. После того, как в 1961 году я сделал в «Современнике» спектакль «Белоснежка и семь гномов», я ставил «Женитьбу» Гоголя на том студийном курсе, который был плохо набран и плохо обучен в «Современнике». Но Сережа, что называется, «зацепился» тогда. Он долгое время был актером «Современника», активно помогал мне в работе с моими студийцами с самого начала – с 1974 года.
Фамилии ушедших одна другой звонче: и Володя Кашпур, и Владлен Давыдов, и мои погодки – Слава Невинный, с которым мы вместе входили в кино, Ия Сергеевна Саввина, Таня Лаврова. Это бесценные потери. По нескольку слов о каждом из них не скажешь.
Я лишь коснусь темы судеб актеров нашего поколения в Художественном театре. Мы очень долгое время оставались молодыми, потому что во МХАТе «старики» держались кучно, прочно, не допуская вперед даже предыдущее поколение – Влада Давыдова, Костю Градополова, Алешу Покровского. Мне было легче, я-то прорыв уже совершил – киноролью мальчика-хулигана, порубавшего с таким трудом приобретенную мебель. Это судьба, везение, фарт. А эти вот ребята с очень и очень большим трудом прокладывали себе путь на авансцену.
Вообще условия для попадания на орбиту во МХАТе в те времена были нелегкими. Как пел Утесов, «шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер…»
После смерти Николая Павловича Хмелева во МХАТе наступило междуцарствие, потом, когда я заканчивал Школу-студию, главным режиссером какое-то время был Михаил Николаевич Кедров, потом была художественная коллегия из четырех человек: Кедрова, Станицына, Ливанова и Володи Богомолова, вроде как представителя следующего поколения. Если троим было по шестьдесят, то Володе Богомолову – ближе к сорока. Но не только названные мною «старики»-мхатовцы, но и Массальский, Ершов, Орлов и так далее – они держали оборону непробиваемую.
Когда Василий Осипович Топорков, мой учитель, спросил Кедрова: «Ну, вы хотите брать Табакова в труппу… А что он будет тут делать?» – тот ответил: «Ну-у, не знаю… Может, он что-нибудь сыграет… Федотика или Родэ в “Трех сестрах”… А через год-два, может, сыграет Керубино…» На что мой учитель сказал: «Не-ет, он не пойдет сюда…» Это уже было знанием «местных условий игры».
Леня Харитонов сыграл в годы «оттепели» в спектакле по пьесе Раздольского «Сокольники». Но он сыграл одну роль – и все… Ефремов ушел против своей воли в Центральный детский театр. Да и Олега Борисова во МХАТ не взяли.
Нет, тут вообще с дарованиями обходились странновато. Роли молодых персонажей играли люди в возрасте. Из женщин только Таня Лаврова довольно рано сыграла Нину Заречную, а потом была занята в каких-то переводных пьесах.
Это был даже не застой МХАТа, а настоящий «залеж»… Трудно передаваемая незаинтересованность в поиске молодых талантов. Думаю, я выстраивал свои дальнейшие действия с учетом этого невеселого знания. Как это говорится в Книге Экклезиаста: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь».
Мысли о живом театре
Существует незыблемое триединство театральных проблем. Оно включает в себя, во-первых, смысл, то есть репертуар, литературу. Во-вторых, необходимость наличия актеров особой школы, склонных к живому восприятию окружающего мира и адекватной реакции на этот окружающий мир (на театральном сленге это называется «живой актер, способный воспроизводить на сцене живую жизнь человеческого духа здесь, сейчас, в данных предлагаемых обстоятельствах»). И наконец третье – это режиссура. Но режиссура, не просто рассказывающая о своем даровании, не устраивающая, так сказать, exhibition на театральной сцене, а режиссура корневая, серьезно относящаяся к литературе, драматургии, нуждающаяся в живом актере, который есть основное выразительное средство, хотя, конечно, и не единственное. Есть еще художник спектакля, пространственное решение… И это триединство проблем стоит перед каждым театром, уважающим себя и отдающим себе отчет в том, что он делает и зачем.
Я привлекаю к работе в Художественном театре людей, с творчеством которых я лично знаком. Не просто заманиваю их предоставляемыми возможностями, а зову людей, как мне кажется, зная, какими сторонами их нераскрытых способностей смогу воспользоваться при создании нового репертуара. Вот путь, по которому мы идем, и, конечно, не всегда получается у нас все, как задумывалось, но тем не менее я с радостью могу отметить, что действительных удач и свершений актерских у нас очевидно немало. Случаются и разочарования, которые, бывает, трансформируются и в пересмотр деловых взаимоотношений… Впрочем, особых разочарований, наверное, пока все-таки и не было.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: